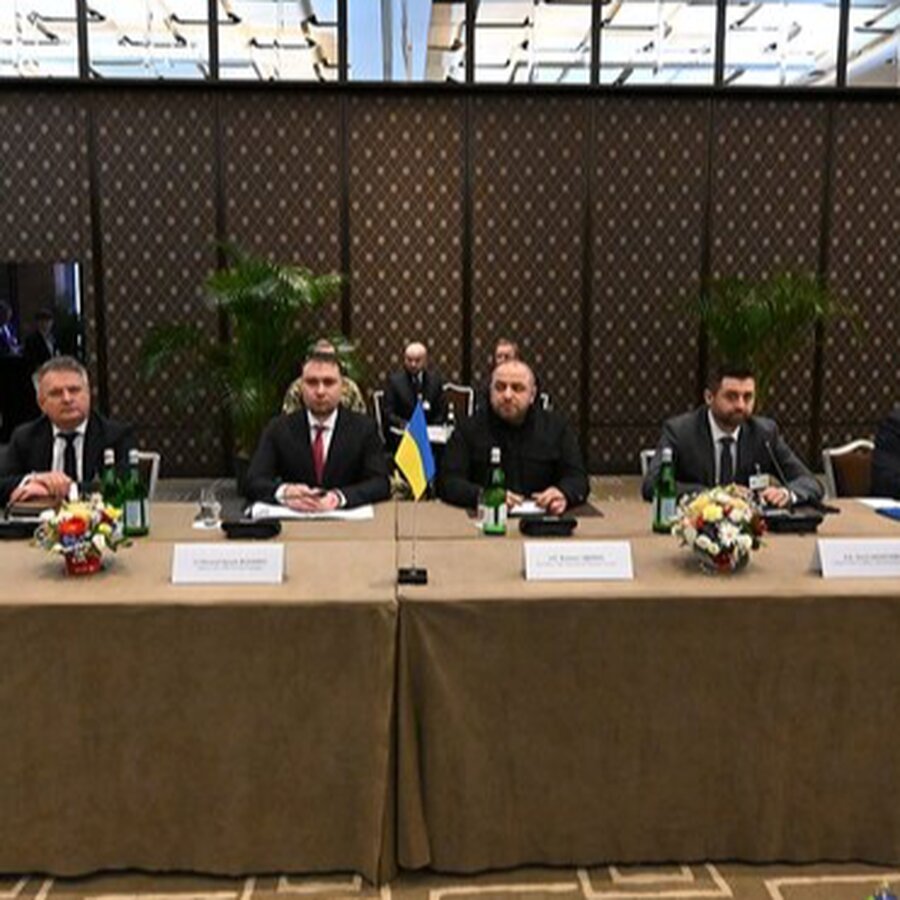Елена Грызлова. Фото: M24.ru/Лидия Широнина
Елена Грызлова работает в Научно-исследовательском институте ядерной физики МГУ. В этом году она стала одним из немногих теоретиков среди лауреатов премии правительства Москвы, которую ежегодно вручают молодым ученым. Ее работа посвящена созданию и развитию теории нелинейных фотопроцессов в атомах под действием излучения, генерируемого новым поколением лазеров на свободных электронах. Корреспондент M24.ru узнал у Елены, почему так важно это исследование, что из себя представляет лазер на свободных электронах, как это связано с фемтофотографией, а также как проходит обычный день физика-ядерщика.
– Расскажите, в чем особенность вашей работы?
– Прежде всего это теоретическая работа – создание и развитие теории для описания процессов, которые идут в поле лазера на свободных электронах – источника, дающего в режиме лазера такое же рентгеновское излучение, как в рентгеновском кабинете.
– Что значит "в режиме лазера"?
– Это очень высокая интенсивность, очень короткие импульсы и, что очень важно для науки, монохроматичность, то есть одна длина волны. Если у нас свет, идущий от Солнца, содержит все длины волны – красную, синюю и зеленую, – то лазерное излучение является либо зеленым, либо красным. Монохроматичность позволяет точно считать энергию. То есть вы знаете, какова энергия вашего источника, какова длина его волны и, соответственно, можете определять, насколько она изменилась.
Первый лазер на свободных электронах заработал в 2005 году. Важной особенностью этого источника является очень высокая интенсивность: он в миллиард раз превышает все существовавшие до последнего момента источники рентгеновского излучения в физике. В общем-то, лазер работает всего-навсего 10 лет, а интенсивность его выше в миллиард раз. Соответственно, вы можете наблюдать процессы с такой точностью, которая раньше даже не снилась.
– То есть, насколько я понимаю, это связано как-то с фемтофотографией?
– Я термин "фемтофотография", надо сказать, слышу впервые, но вполне возможно, что да, потому что он дает съемки фемтосекундные (1 фемтосекунда = 1 квадриллионной секунды – прим. ред).
– Фемтофотография – это как раз-таки запись ультракоротких импульсов света на очень высокой скорости. На презентации в 2012 году ученый из Массачусетского технологического института показывал, как несколько десятков фотонов проходит через бутылку воды. При этом скорость съемки составляла триллион кадров в секунду. Получается, что этот лазер является чем-то похожим?
– Думаю, все-таки вы говорите про оптический диапазон, но это связанные вещи. Ведь для чего нужны такие короткие вещи, короткие импульсы? Для того чтобы снимать процессы, которые идут очень быстро, которые иначе вы просто не успеете сфотографировать.
Но здесь речь о другом диапазоне. То, о чем вы говорите, – это все-таки диапазон оптический или даже инфракрасный, видимый свет, а там – рентгеновский. Можно сказать, это рентгеновская фемтофотография.

Фото: M24.ru/Лидия Широнина
– Почему раньше не было теории этих процессов?
– В первую очередь все-таки теорию движет практическая возможность ее проверить. И, конечно, потребности создавать такого рода теории раньше просто не было, поскольку это было работой в стол. А сейчас появился прибор, и, естественно, появилась и потребность в соответствующих теоретических расчетах.
Но теоретические расчеты – они же в каком-то смысле всегда приближенные. Старые теории стали сейчас неверны: мы вышли за пределы области применимости приближений, которые использовались. Поэтому теоретические расчеты нужны, раньше их не делали.
– Для чего это нужно?
– В идеале люди хотят получать снимки химических реакций, то есть, грубо говорят, видеть, как два атома объединились в молекулу. Получать динамические снимки каких-либо биологических процессов. И, что очень важно, получать изображения одиночных биомолекул.
Почему нельзя получить изображение одиночной биомолекулы? Они не кристаллизуются, а чтобы нам сейчас сделать снимок на рентгенографии, это должен быть большой объект, на котором уже можно наблюдать дифракцию, интерференцию. То есть нужны кристаллы.
Биологических молекул, которые кристаллизуются, – единицы. А биологам, фармацевтам, медикам – всем хочется знать про все биологические молекулы, а не только про те редкие единицы, которые кристаллизуются. В придачу те молекулы, которые закристаллизуются, – они не такие, как в организме человека. Ясно же, что внутри вас эта биомолекула не такая, как на фотографии, после того как обратится в кристалл.
А тут интенсивность настолько высока, как я сказала, в миллиард раз, что вы уже можете померить сигнал, отраженный от одной молекулы, можете смотреть, как они взаимодействуют с чем-то. Грубо говоря, как какой-нибудь фермент цепляет на себя кальций, куда он его тащит дальше, где он отцепляет. Вот такая дальняя практическая перспектива.

Фото: M24.ru/Лидия Широнина
Конечно, сами по себе эти практические исследования уже требуют участие ученых из очень разных групп – объединенные коллективы и биологов, и рентгенологов. Но в том числе туда нужны и элементарные процессы, которыми занимаются у нас, здесь. Это в основном очень точные расчеты элементарных фотопроцессов – процессов на одном атоме, или на простых молекулах, или небольших наночастицах.
– Опять же, сравнивая с фемтофотографией, о которой я уже говорил. С помощью нее теоретически можно спасать людей из пожара: посылая фотоны в стенку, можно увидеть, есть ли человек за горящей стеной или где-нибудь, где его нельзя увидеть. Можно ли что-либо подобное сделать с помощью вашей теории?
– Не знаю. Даже то, что вы говорите, – это все-таки очень далекая фантазия. Конечно, я встречала подобные утверждения, что, например, можно обнаружить одну молекулу алкоголя в машине, то есть то, что человек пил и выдыхал. Но это какие-то теоретические потенциальные возможности, которые, конечно, возможно, никогда не будут реализованы.
– Почему же?
– Кто же разрешит по всем машинам подряд рентгеном светить только для того, чтобы пьяного найти? Это же просто риски несопоставимые. Есть и более простые способы это сделать.
Наверное, у меня фантазии не хватает, чтобы такие схемы реализовывать. Я все-таки вижу больше перспективу в фундаментальном понимании, чем в практическом приложении. Мы вряд ли можем предугадать, где какие-либо научные открытия найдут практическое приложение. Никто, собственно говоря, не ждал таких практических приложений, когда открыли радиацию.
Поскольку тут речь все-таки идет об очень больших интенсивностях, которые в повседневной жизни никуда не годятся, то, скорее, тут речь тогда идет о создании материалов или моделировании материалов с атомной точностью. Вот это то, что действительно делают. То есть, грубо говоря, создать поатомную копию какого-то объекта, который не только выглядит похоже, но и функционирует так же.
– То есть чистая идеальная копия?
– Ну да, это если вам нужен полет фантазии. Если люди делают на уровне элементарных объектов, грубо говоря, в 50 атомов – это сейчас реальность. Можно подумать о таком направлении.

Фото: M24.ru/Лидия Широнина
– Такой немного пространный вопрос: расскажите, как проходит день физика-ядерщика?
– Я прихожу на работу обычно рано, где-то в 8.30. Пока я в Москве, день плане проходит достаточно просто – ты действительно сидишь и с утра до вечера пишешь формулы, программу, считаешь по ней, проверяешь, читаешь статьи, сравниваешь, пишешь статьи, чистишь статьи, чистишь список литературы и так далее.
Работа теоретика в этом плане очень простая. Она включает написание формул, иногда достаточно страшных. Потом программирование, чтобы получить численный результат того, для чего была написана формула. Один из самых сложный вопросов – написание статей, потому что нужно не просто написать свои результаты, но и сделать некий обзор литературы, показать новизну и значимость.
И, как правило, конечно, представление результатов занимает сильно дольше, чем получаемый результат. Часто оказывается, что мы получили результат, который уже где-то был, но пока вы работали над ним, то даже не осознавали, что он уже был получен кем-то.
Когда мы ездим на работу в Гамбург, где расположен лазер на свободных электронах, на который Россия нам дает 26 процентов денег, соответственно, мы имеем соответствующие права на время на пучки. Там все это выглядит немного по-другому, поскольку там этот прибор, собственно, есть.
Если вы приезжаете именно в то время, когда получены данные, тогда активная работа бывает, зачастую и по ночам. Сейчас тоже бывает – по Skype. То есть когда люди получают время на пучки, они, конечно, не теряют ни секунды, поскольку, когда вы гоняете установку, доступ к которой ограничен и дается, например, на 10 дней, и следующих 10 дней вам предстоит ждать несколько месяцев.
Экспериментаторы, с которыми мы работаем, непрерывно посылают данные, спрашивают мнение, спрашивают, что изменить. Они очень охотно приглашают теоретиков. Иногда нужно поучаствовать в проверке полученных данных, а иногда требуется быстро выдвинуть идею.
В этом плане, собственно говоря, и ценность той теории, которую мы здесь развиваем, – в том, что она, во-первых, обладает значительной предсказательной силой, а во-вторых, достаточно близка к тому, что там делается, чтобы быстро дать какие-то заключения. И третья составляющая – это конференции. Это всегда очень интересно, много докладов, обмен информацией, сборками и так далее.

Фото: M24.ru/Лидия Широнина
– Расскажите подробнее о работе с зарубежными коллегами. В чем заключается их подход к науке в плане исследований?
– Люди разные. Сказать, чем отличается теоретический подход именно по стилю исследования, очень трудно. То есть самые разные бывают теоретики, экспериментаторы. Конечно, их экспериментаторы привыкли работать в значительно более простых условиях, чем наши.
Теоретикам в этом плане проще: все-таки все, что нам нужно, – это компьютер и доступ к журналам. Хотя в этом отношении мы все равно оказываемся немножко в тяжелой ситуации, потому что часто приходится просить зарубежных коллег присылать статьи, к которым у нас нет доступа или подписки, а у них есть. Но тем не менее сейчас ситуация в этом плане неплохая, то есть я прекрасно помню, что в 2000 году было намного хуже и в 2005-м было похуже в смысле доступа к статьям.
– Почему?
– Скорее всего, дело в деньгах просто. Любая подписка такого рода стоит денег, в том числе электронная. Это оказалось, видимо, слишком дорогим. Сейчас в университете, во всяком случае, ситуация очень неплохая, хотя все равно есть вещи, которые приходится просить.
Экспериментаторы за рубежом в значительно более полных условиях в плане техники, это понятно. Но, с другой стороны, они привыкли работать в более жестких, я считаю, рамках. Они создают коллектив, который существует, например, год, после чего он распускается, и на новый надо создавать новую заявку и так далее.
Когда они узнают, что у меня должность научного сотрудника на пять лет, они в полном шоке, потому что у них не принято подписывать такие долгосрочные контракты, там с каждым человеком контракт подписывается на год. Хорошо, если на два. Зачастую на три месяца или на полгода.
В этом плане они привыкли работать в жестких временных рамках, именно поэтому они не теряют времени, потому что, если вы не сделаете это за полгода, вы не сделаете этого никогда, коллектив уже перестанет существовать или станет другим.
– А как вы думаете, что лучше – долгосрочный контракт или такой подход?
– Вопрос очень непростой. Дело в том, что в каждом месте свои реальности. Когда пытаются их подходы приложить к нам, обычно это плохо кончается. Приезжая в Гамбург на два месяца, я за эти два месяца успеваю много больше, чем в России, и это при том, что рабочий день там зачастую оказывается короче, потому что они там не засиживаются на работе. Так что с точки зрения эффективности приходится говорить о том, что лучше.

Фото: M24.ru/Лидия Широнина
У них значительно меньше бюрократической деятельности, на порядок меньше. Здесь же если у меня есть грант, то на мне лежит абсолютно все бухгалтерское сопровождение, я веду все его финансы этого и все планирование. А у них даже если грант получает ученый, то всю организационную работу такого рода делает бухгалтерия. Конечно, у них ни бухгалтерия, ни планово-финансовые отделы даже близко не делают то, сколько у них делают эти организации.
– Расскажите, как вы пришли в науку, что вас на это сподвигло?
– Я никогда другой деятельности и не рассматривала для себя. Совсем маленькой я хотела быть космонавтом, но уже в более осознанном возрасте хотела стать астрономом. И когда поступала на физический факультет, то поступала на астрономическое отделение.
На него я не попала, а попала на отделение физическое. Но я занималась астрономией в Институте теоретической и экспериментальной физики, моя дипломная работа была по физике нейтронных звезд.
Сделав диплом, я поняла, что это несколько не так романтично, как казалось в школе, потому что все-таки трудно проверить то, что вы делаете, когда взрыв сверхновой случается раз в 50 лет.
Тогда и захотела сменить на тему такую, в которой есть тесное взаимодействие с экспериментаторами, чтобы то, что вы делаете, можно было проверять на человеческой памяти, не ждать следующей сверхновой, следующего затмения.
– А почему все-таки не космонавтом?
– Не знаю, как-то прочтение биографий космонавтов чуть-чуть разочаровало, потом не так активно берут в России женщин в космос. С возрастом пришло осознание, что полет длится два часа, хорошо, если несколько дней, а все остальное время вы только готовитесь и готовитесь. Хотя кто знает, сейчас ученых периодически пускают. Всегда хотелось вкусить космос в каком-то виде. Естественное, в общем-то, желание.








 Собянин рассказал о реставрации главного дома усадьбы Карабановых
Собянин рассказал о реставрации главного дома усадьбы Карабановых