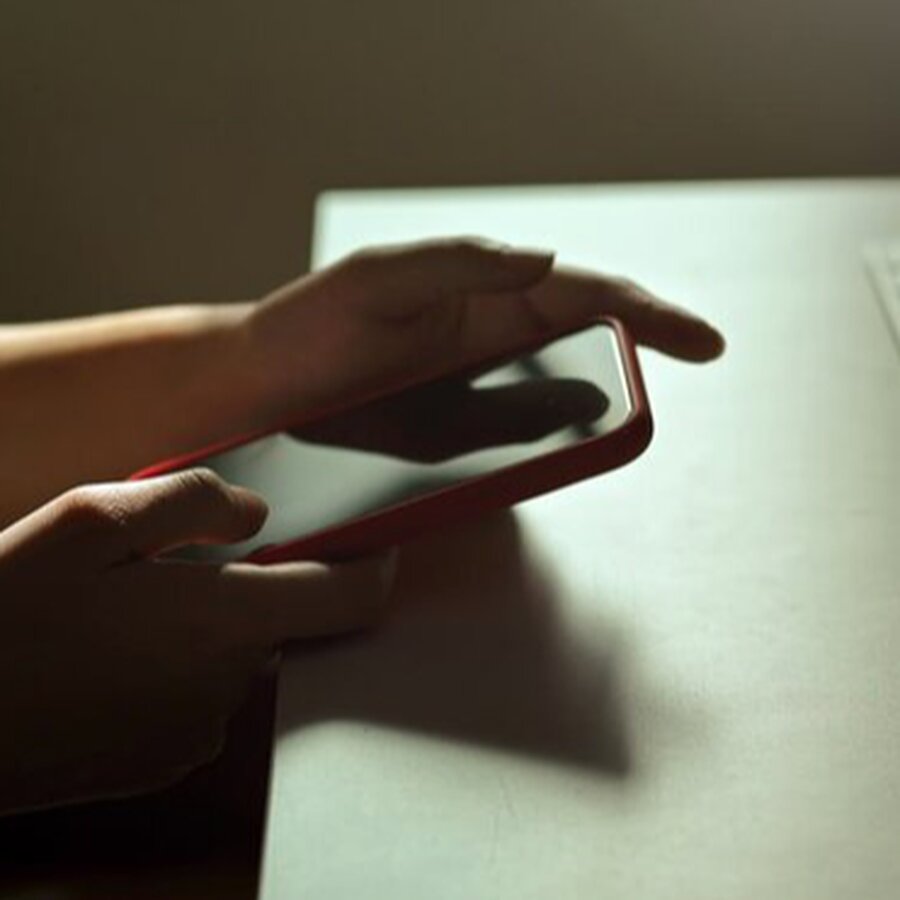В Гоголь-центре в рамках цикла "Открытая лекция" выступила президент ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова. Она рассказала о том, как мог бы выглядеть музей ее мечты. Сетевое издание M24.ru провело прямую трансляцию лекции.
- Можно было поговорить о многом, но я все-таки решила поделиться своими некоторыми мыслями и соображениями, связанными с моей непосредственной профессией, а именно с музеем, музейным делом, со всем тем, что имеет отношение к музеям. Когда мы говорим о современном музее, о музее будущего, мы вовсе не имеем в виду, что это музей, который насыщен произведениями своего времени, то есть только тем, что создается вчера, сегодня и должно быть показано. Нет, любой музей, в том числе тот, который хранит наследие, может быть музеем традиционным, а иногда даже устаревшим по своей концепции, а может быть музеем и современным, и более того, музеем будущего. Вот о таком музее, каким музей будущего мог бы быть, мне бы хотелось сегодня поговорить.
Я думаю, что многие присутствующие здесь все-таки представляют себе, так укоренилось в нашем сознании, музей как атавизм достаточно древний. Мы сегодня будет говорить в основном о музеях изобразительного искусства, пластических искусств – скульптур, живописи, о музеях художественных, одним словом. Хотя музеи могут быть посвящены биологии, медицине, истории, технике. Таких музеев огромное число в мире, и их становится все больше. Но говорить мы будем о музеях художественных, которые призваны собирать, хранить, показывать публике, прежде всего, произведения искусства.
Мы иногда себе представляем, что эти музеи возникли очень-очень давно, а на самом деле, как ни странно, это довольно молодые организмы. Тот же театр - гораздо более древнее создание культуры. Другой вопрос, что коллекции художественных произведений начали действительно создаваться очень давно, собственно, тогда же, когда стали появляться художественные произведения. И мы знаем, что коллекцией можно назвать все что угодно.
Если какая-нибудь женщина в далекие-далекие времена сделала ожерелье из ракушек или камушек, она тоже собрала какую-то коллекцию. Но если говорить все-таки о не просто собирательстве каких-то предметов, а предметов, к созданию которых имеет отношение рука человеческая, класс, его представление о мире и так далее, то можно говорить, что собирание таких предметов и коллекционирование началось очень давно. Коллекции были в Древнем Египте, в античные времена. Мы знаем такое слово как пинакотека, то есть собрание картин, оно возникло в Древней Греции. Но были и очень известные, уже связанные с именами собирателей. Имена коллекционеров искусства в эпоху Возрождения и так далее. Эти коллекции не были музеями, потому что, чтобы стать музеем, в нашем понимании этого слова, нужно соответствовать некоторым обстоятельствам, которых у этих коллекций, конечно, не было.
В общем, собранные вместе какие-то произведения искусства, если к ним нет доступа зрителя, если их созерцание возможно только для того, кто их собрал или для круга тех людей, которые связаны с этим человеком, это еще не коллекция. Это может быть все, что угодно: погребальное какое-то помещение, может быть пирамида, но только не музей.
Музей – специализированное учреждение, созданное для того, чтобы в него приходили люди, имели доступ к этому материалу и его - этот материал - им показывали. Их создание относится, в лучшем случае, к XVIII веку, потому что первым таким музеем был Британский музей, он создан в 1753 году, в него открыли двери для публики. Музей был создан в Лондоне, он собирал в основном древнее искусство, начиная с первобытного, греческое, римское, искусство Средних веков и совсем немного начинал собирать эпоху Возрождения.
И общедоступным музеем, как мы понимаем музей сегодня, стал Лувр в Париже. Непосредственно сразу после революции 1789 года, когда были национализированы коллекции и когда были, прежде всего, представлены и открыты коллекции, собранные французскими королями, находившиеся в Лувре, закрытые для посещения. Кстати, в этом процессе огромную роль сыграл Давид - великий французский художник, он был одним из тех, кто внес огромный вклад, который символизировал начало всего музейного дела в мире. Здесь ему принадлежит большая роль.
Я думаю, что можно было назвать музеем кунсткамеру Петра Первого, но это относится к началу XVII века. Здесь у России есть какой-то приоритет. Это было собрание необязательно только искусства, хотя там были какие-то произведения, это была собственно кунсткамера, где было все, что угодно, и какие-то раритеты, заспиртованные организмы и так далее. Весь этот огромный интерес Петра к миру, его совершенно ненасытное любопытство ко всякого рода диковинам, вообще ко всякого рода предметам, которые его поражали, будь то предметы биологического свойства, искусства или прочее, он собирал в кунсткамере. Почему я говорю, что кунсткамеру можно на том этапе было назвать музеем, потому Петр очень заботился о том, чтобы туда приходили люди и смотрели эти материалы. И даже известно, что он предлагал: если вы пришли посмотрели, вам выдавался цукерброд и рюмка водки. Это было поощрение – вы пришли посмотреть. Петр был заражен такой просветительской идеей. Это тоже музейная идея. Поэтому это собрание очень причудливых, странных предметов, собранных вместе в одном месте, там могли быть драгоценные камни, могли быть заспиртованные младенцы и прочее – все это было предназначено для того, чтобы люди приходили и смотрели.
Надо сказать, что первые коллекции так и собирались. Было всего понемногу, всякого рода раритеты. Интерес к произведениям живописи, скульптуре, графике и так далее – все это возникает несколько позже. Среди самых первых по-настоящему музеев был, конечно, Британский музей 1753 года. В это же время возник Эрмитаж, в 1764 году, но на первых порах он не был музеем. Это была частная коллекция Екатерины Второй. Она провела невероятную работу по собиранию потрясающих произведений искусства. Ей помогали в этом и придворные, такие люди, как Вольтер, которые специально для нее узнавали о выдающихся коллекциях, которые она скупала во Франции, затем в Германии и Великобритании. Она собрала поразительные по своему богатству коллекции, но до поры до времени они были, конечно, закрыты. Кроме тех, кто имел право входа во дворец, кто был близок к императрице, гости, в том числе заморские, они могли видеть эти вещи, но это собрание не могло считаться музеем ни в какой мере. Но Эрмитаж стал приоткрываться для публики, причем сначала на довольно строгих условиях, начиная от этикета одежды и других моментов, очень ограниченного времени, начиная с 30-х годов XIX века.
Если говорить о настоящем начале музейного развития - это начало XIX века. И пусть вам не покажется это странным. В большой мере этому содействовал Наполеон, его походы, его завоевания. Он был абсолютно свободен от всяких сдерживающих мотивов. Побывав в Италии, он вывез невероятное количество ценностей оттуда. Надо вам сказать, что практически вся итальянская коллекция Лувра была привезена при Наполеоне и так и не была возвращена. Я видела многие места в Италии, когда работала там какое-то время, и видела церкви. Больше того, он ограбил музеи Голландии и многие-многие другие, но что-то все-таки возвращалось. Как остроумно написал один исследователь в нашем деле, эта грабительская политика Наполеона очень содействовала развитию патриотических чувств и понимания значения искусства во многих европейских странах. И как только к ним вернулось много из того, что было вывезено, тут же создавались государственные музеи. Буквально в начале XIX века был открыт в Голландии Рийксмузеум (Rijksmuseum). Кстати, все эти крупные музеи открылись в XIX веке. Некоторые в начале, некоторые в середине, некоторые в конце, но создание музейной сети Европы – это, конечно, XIX век. Так что, как вы видите, это довольно молодые музейные организмы.
Они по многим причинам кажутся древними. Во-первых, они населены старым искусством, начиная от античности или Древнего Египта, и то, что в них хранится, действительно очень древние предметы, произведения искусства. Музейная жизнь сама по себе, поскольку музеи в первую очередь выступают хранителями, они должны во что бы то ни стало сохранить то, что в них поступает. Собственно, это была первая и основная задача музеев – собрать и сохранить. И это, конечно, придало этому музейному организму консервативный характер. Консервативность от слова консервировать, сохранять. Но это вошло в плоть, в кровь и сегодняшнего музейного работника XXI века. Как говорится, "держать и не пущать" ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Это такая психология, которая вошла в гены тех, кто посвятил себя этому делу. Но, тем не менее, конечно, развивались и другие начала в работе деятельности музеев, но собирать и сохранять по возможности – это стало главной задачей.
Новый этап наступил с развитием интереса к искусству, к собиранию искусства в Соединенных Штатах Америки. Там на волне возникновения богатых, сверхбогатых людей возникло мощное движение коллекционеров, носящее своеобразный характер. Они собирали все в Европе. Произведения искусства собирались довольно пассивно. Все, что они делали, практически вывозили из Европы. Когда я первый раз приехала в Америку, тогда еще не так много туда приезжало музейных специалистов, по крайней мере, в 1963 год, я была потрясена контрастом между улицей, тем, что я видела в самих городах и музеями. В музее я просто попадала в мир европейский, в другой мир. Огромные коллекции были перевезены и куплены, колоссальные. Такие коллекционеры, как "Мэл", "Честер Дейл", как "Фрик", они скупали поразительные вещи. В тот период конца XIX – начала ХХ века это было еще возможно. "Метрополитен-музей" одним из первых возник в 1870 году. Самый крупный музей Америки, находится в Нью-Йорке. Эти коллекции совершенно невероятные.
Я провела там месяц по приглашению Американской Ассоциации музеев. Формат моего визита был такой: я не имела права жить в отелях, только в семьях руководителей музеев. И первый музей, в который я попала, это был музей Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне. Меня туда привезли, так получилось с самолетами, глубокой ночью. Мы приехали, вышел очень пожилой человек с фонариком в руке и повел меня на последний этаж через залы музея. И время от времени его фонарик падал на какие-то произведения. Вдруг смотрю – боже мой! – "Похищение Европы" Тициана. Великая картина. Она висит, это такой довольно старомодный музей с такой гобеленной развеской, когда картины висят одна вплотную к другой. И таким образом я прошла через музей с невероятными сокровищами. И тут все, что я видела, приехало из Европы. Представьте себе, какое же количество этих пароходов должно было везти все эти сокровища. А утром, когда я уже проснулась и вышла, я увидела, что музей, который имел большой внутренний дворик, все фасады внутреннего дворика – это фасад венецианских палаццо. То есть увозились не только картины, скульптуры, но и целые архитектурные сооружения, а именно части венецианских палаццо. Это был такой период, когда американцы скупали все, что только можно скупить. Потом это все прекратилось. Некоторые такие разбойничьи вывозы из Европы, тайные где-то, когда не докладывалось государству, правительству другой страны, заставили американцев что-то вернуть назад. Но огромная, львиная часть всего того, что они вывезли, там сохранилась. Американский музей – это музей европейского искусства.
Но со временем они обратили внимание на то, на что еще Европа не обращала внимания, а именно на культуру цивилизаций не европейских – Индия, Китай, Япония, Латинская Америка, Азия, азиатские страны Иран, Ирак и так далее. И они накупили огромное количество произведений оттуда. Поэтому у них есть замечательные коллекции и из других стран. Относительно недавно, на моей памяти, в "Метрополитен-музее" возник раздел американского искусства. Начали они с Европы, а не с искусства своей собственной страны. Они сделали очень хороший раздел этого, но помимо пластических искусств, изобразительного искусства, картин, они привезли огромное количество мебели больших ансамблей, украшающих комнаты и так далее. Они вывозили целые комнаты. Во время моего путешествия по Америке там был такой случай. Меня передавали из рук в руки музейным работникам, сажали в самолет и говорили: "Вот вы летите туда-то, вас там встретит директор такого-то музея, вы у него поживете два-три дня, посмотрите все музеи, и мы вас передадим дальше". Такая была политика. Меня погружали в образ американской жизни. И вот я приехала, меня принимала семья Дюпонов, очень известные богатые люди Америки, их пять братьев. Один из них имел музей, который назывался "Музей ста комнат Америки", той самой знаменитой комнаты Америки. Они в каждом таком доме покупали какую-то комнату с полным ее оформлением и в этом музее размещали. Я была действительно потрясена. Во-первых, это были все европейские комнаты. И чем очень гордились американцы, а частности, супруга одного из Дюпонов, которая работала со мной, она мне говорила с гордостью: "Посмотрите на это зеркало. Вы видите, какое оно потемневшее, темное. В него ничего не видно. Но это старая вещь". Я спала в комнате, где была кровать XVII века французская с пологом. Всем этим они очень гордились.
Я это говорю к тому, чтобы понять характер этих музеев. Больше того, я там увидела и музеи, которые построены целиком на старорусском искусстве. Картины того же Репина, Серова, Перова, Федотова. Но это было более позднее, это в основном был музей, который был построен на вещах, которые американский посол 1930-х годов вывез из России. Видимо, тогда в разных комиссионных магазинах можно было все покупать. И возник целый музей с прекрасной картинной галереей, с предметами мебели, посудой и всякими другими предметами богатого дворянского русского дома.
Но этот период кончился, это стало невозможно, были приняты соответствующие законы в разных странах, но все это целое недавнего прошлого, самого конца XIX и начала ХХ века. Тогда американцы заинтересовались современным искусством, его процессами. И начался процесс, тогда еще были возможны покупки с выставок картин импрессионистов, постимпрессионистов, Пикассо, Матисса, других художников, и вплоть до сегодняшнего дня очень крупные покупки современного искусства, в том числе искусства буквально последнего времени, 1960-1970-1980-х годов совершают американские коллекционеры.
Не надо думать, что все они невероятные любители искусства, вовсе не так. Конечно, там есть и люди, которые очень тонко разбираются в искусстве. Это можно сказать о таком коллекционере Фрике. Есть такой The Frick Collection, "Фрик-музей" в Нью-Йорке. Когда меня спрашивают, какой ваш любимый музей, и ждут, что скажу Лувр или Дрезденская галерея, или Третьяковская галерея или Музей Пушкина, я отвечаю: "The Frick Collection". Это относительно небольшой музей, составленный только из одних шедевров. Причем произведения действительно очень высокого класса итальянских, французских, английских художников, в основном итальянских. Совершенно, бесконечно привлекательный. Это относительно небольшая галерея, она находится недалеко от "Метрополитен-музея" на той же улице, но это изумительный музей. Совершенно очевидно, что хозяин обладал каким-то личным вкусом, он там просматривается. Но это было необязательно. Дело в том, что по миру очень давно действует правило на такие законы, которые освобождают частично, не целиком, там есть своя шкала, от всякого рода поборов, плат за всякие ценности и прочее, тех, кто собирает искусство. То есть там к этим людям, которых ни в коем случае нельзя назвать меценатами, а просто коллекционерами и любителями искусства, у них очень облегченные налоговые правила.
Я уже несколько лет участвую в подготовке такого закона о меценатах в нашей стране, особенно о тех, кто дарит свои коллекции в музеи, и пока мы ничего не можем добиться, к сожалению. Он почти готов, уже всеми подписан, и все равно не выходит в жизнь и не получает окончательного одобрения, а это очень важно. Я должна вам сказать, что настоящие коллекционеры – это народ совершенно особенный. Конечно, есть спекулянты, которые спекулируют на художественных ценностях, но если это настоящие коллекционеры, это люди особенные. Это люди страсти, увлечения непоборимого, это как наркомания. Так коллекционеры не могут освободиться от необходимости искать, искать, искать новые вещи и находить их. И мы знаем, что коллекционеры в очень многих случаях доходят туда, куда музейные работники не могут дойти. По многим соображениям, не только из-за того, что у музейщиков нет таких денег, которые позволят им купить. Вовсе нет. Они просто не имеют тех путей, чтобы найти, где эти вещи хранятся, и найти тех людей, у которых те или другие важные для музея произведения находятся.
К таким людям, я считаю, в какой-то мере поменял отношение наш музей, к личным коллекциям. Было время, это уже были 1940-1950-1960-е годы, в Москве и в Петербурге было много людей, которые собирали произведения искусства, но отношение к ним было отвратительное. Здесь много молодых людей, может, вы этого не знаете. Непрерывно появлялись и фильмы, и статьи, где писали о коллекционерах только как о спекулянтах, грабителях, о людях, происхождение частной собственности которых непонятно, откуда они взяли деньги, чтобы приобретать художественные ценности.
Но среди коллекционеров были разные люди. У некоторых, по тем или иным причинам, были какие-то капиталы, но очень многие из коллекционеров советского периода в нашей стране не были богатыми. Это были в основном ученые, писатели, врачи, люди интеллигентных профессий, которые любили искусство, которые получили этот вирус влюбленности к искусству, к определенным, как правило, периодам, художникам. Они их искали, находили, обменивались между собой иногда, и считали за величайшее счастье обладать этими вещами. Я помню такого коллекционера Коростина. Или Вишневского. Его знали многие. Сейчас на основе его коллекции создан музей Тропинина. Если бы вы их увидели на улице, это тип бомжа, плохо одетый, человек, странно выглядящий и тративший все, что у него было, на покупку этих вещей. И действительно им удавалось, они были знатоками настоящими, людьми, влюбленными в искусство. Многие из них свои вещи, как они чувствовали переход в мир иной, завещали музеям. В частности, наш музей личных коллекций построен на коллекции Ильи Самойловича Зильберштейна, который подарил нам 2200 вещей. Причем среди его произведений и западноевропейские, и русские. Он доктор наук, литературовед, издатель "Литературного наследия" и искусствовед. Он находил вещи невероятные совершенно, которые никто не мог найти. Он нашел знаменитые портреты декабристов, например, около 80 портретов. Он их сумел разыскать, обнаружить, найти, приобрести. Они все сейчас находятся у нас в музее.
Я знала очень многих таких людей, которые заслуживают настоящего уважения, но знала и других, которые использовали свои знания, свои коллекции уже в других целях. Начиная с 1990-х, в России появился новый тип коллекционера, не имеющего ничего общего с тем классом, о котором я вам говорила. Это очень богатые люди, среди них тоже есть настоящие коллекционеры, могу назвать одного такого – это господин Петр Олегович Авен, он президент "Альфа-банка". Он любит искусство, искусство авангарда. Впрочем, все современные коллекционеры любят прежде всего авангард, как-то они за пределы этого круга почти не выходят. В мечтах купить подлинного Малевича где-то до 1950-1960-х годов. Все собирают примерно одно и то же. Качество коллекции у всех разное. Но есть коллекционеры другого типа. Например, настоящим коллекционером является Илья Глазунов. Он ищет иконы, ищет XVIII век, это его поворот на собирательство. Есть коллекционеры – люди, работающие в основном в МИДе, которые любят иностранных художников. Например, наш бывший министр культуры Авдеев собирал голландскую живопись XVII века.
Но, как правило, из старой гвардии коллекционеров нам примерно 40 человек безвозмездно передали свои коллекции. Из этой новой гвардии пока еще никто ничего не дарил, хотя наш музей личных коллекций – мы всегда показываем выставки личных коллекционеров. Хотя бы для того, чтобы знать, что где и у кого находится. Это тоже очень важно. Мы делаем охотно эти выставки.
15 числа откроем выставку пяти коллекций, но коллекционеров, которых уже нет, они ушли из жизни. Они нам их не подарили, они остались в семьях их родных, имеют на это полное право, но мы их покажем. Такие музеи иногда малопонимающему зрителю кажутся похожими просто на барахолку какую-то, и по тому, как это показано и что собрано. Но и среди таких коллекций можно найти много ценных вещей.
Вот так развивалось это дело – создание музеев. В России были невероятные по мировому масштабу коллекционеры, такие, как Третьяков. Это поразительный человек. Он собирал современное ему искусство. Современное, другого же не было. Он собирал Репина, Левитана, Серова – всех тех, кто работал рядом с ним. Он собрал выдающуюся, замечательную коллекцию. Если бы он ее не собрал, это бы рассеялось по частным рукам, могло быть продано что-то куда-то. Он совершил национальный подвиг в буквальном смысле слова. Замечательным коллекционером был его брат, который меньше известен. Павел Михайлович, который собирал русское искусство, и Сергей Михайлович. Сергей Михайлович собирал французскую живопись XIX века. Так же, как Павла Михайловича, его волновала реалистическая школа. Он покупал пейзажи барбизонской школы – это пейзаж первых 60 лет XIX века. Он собрал изумительную коллекцию. У нас изумительный Камиль Коро, прекрасный Допиньи, очень хорошая коллекция. И после революции эта часть – зарубежная, иностранная – была из Третьяковки передана в наш музей. Но ведь Павел Михайлович отдал всю коллекцию городу Москве. И в 1892 году Третьяковская галерея открылась для всех, она была общедоступна.
Потрясающими, гениальными коллекционерами в России, конечно, были Сергей Иванович Щукин и Иван Абрамович Морозов. Это два русских купца, как и Третьяков, кстати, занимались текстилем, его производством и продажей, очень состоятельные люди, совершенно влюбленные в основном в искусство французское, зарубежное искусство конца XIX века. Они начали собирать импрессионистов Эдуарда Мане, Клода Моне, Ренуара, Писсарро, Сислея, постимпрессионистов Сезанна, Гогена, Ван Гога. Стали собирать Пикассо и Матисса. Так не собирали даже во Франции. Их никто там не покупал. А когда художник, который собрал изумительную коллекцию импрессионистов, предложил ее Лувру, в Лувре ему сказали: "Нет, это не музейный материал, мы этого не купим".
Щукин и Морозов покупали непосредственно у купцов, которые этим торговали, а с другой стороны, они покупали прямо у художников. Щукин приезжал к Матиссу, тот показывал ему все, что создал в последнее время, так же, как к Пикассо он ездил. Он выбирал то, что ему казалось интересным и привозил к себе в Москву. Кстати говоря, особняк Щукина так же, как и особняк Морозова, находится очень недалеко от нашего музея. Особняк Щукина вообще метров 300, не больше. Это двухэтажный особняк, он принадлежит Министерству обороны. Как мне говорили, это было любимое место министра Сердюкова, который уже не работает там. Кстати говоря, как только он перестал там находиться, я написала письмо министру Шойгу и сказала, что этот дом должен быть передан нашему музею, и мы сделаем там музей-квартиру Щукина, тем более что у нас много вещей из его коллекции. Но пока этот вопрос не решается. Меня, правда, поддержал министр, тоже написал, но пока вопрос не решен.
В своих частных домах, Морозов жил в доме, где сейчас Академия художеств, там располагалась его коллекция. Режим работы этих двух частных личных коллекций, не музейных на тот момент, был разный. Щукин очень гордился тем, что покупал, очень интересовался мнением художников и открывал по воскресеньям свою галерею для публики, прежде всего, для художников и интеллигенции. Морозов почти никого к себе не пускал. Он очень ревниво относился к своей коллекции, и мало кто его коллекцию видел.
Но наступила революция. Обе коллекции были национализированы в 1917 году. Очень интересен документ по национализации, очень короткий, подписанный Лениным, где была фраза, что эти коллекции национализируются, передаются государству как коллекции великих французских художников второй половины XIX – начала ХХ века. Эта характеристика, наверное, была подсказана Луначарским, мы понимаем это, но, тем не менее, она привела к тому, что уже в 1923 году на основе этих двух коллекций был создан музей нового западного искусства в Москве. Это был первый музей современного искусства, в большей части своей авангардного, во всем мире, потому что второй музей, который был создан, "Музей модерн-арт" в Нью-Йорке, он возник в 1928 году. Поэтому мы иногда очень гордимся тем, что мы в чем-то первые. Надо гордиться тем, что музей современного искусства был впервые создан в России. Но в 1948 году, в годы известной агонии сталинского режима, появилось постановление, подписанное Сталиным, первые строки которого звучали так: "Ликвидировать музей нового западного искусства как буржуазный, вредный, наносящий непоправимый ущерб советскому зрителю". Это были годы борьбы с космополитизмом, со всякого рода формалистическими, со всеми теми идеологическими искажениями, которые нанесли большой вред, большой ущерб нашей отечественной культуре, что очень прискорбно. Вся эта коллекция была закрыта. Мы очень боялись одного: что ее или сожгут, или продадут. Этого не случилось, слава богу.
Вся коллекция поступила в наш музей. Я в это время уже работала в музее, я ее видела. Вместе с ней поступили и научные сотрудники оттуда Татьяна Антоновна Шишковская, Александра Алексеевна Боровая и другие. Но буквально через несколько месяцев нам сказали, что коллекция будет поделена на две части: одна перейдет в Эрмитаж, а другая останется у нас, но без права показа. Вот все эти потрясающие картины, которые сейчас самые дорогие в мире, более дорогих нет, потому что самые обычные для Пикассо картины оцениваются в 150 миллионов - 200 миллионов долларов. Рембрандт стоит дешевле гораздо. Это рынок. Я уже не говорю про Сезанна, Гогена, Ван Гога.
Короче говоря, коллекцию разделили, постепенно стали показывать в Эрмитаже и у нас. Но скажу откровенно, многие говорили тогда о том, что это было настоящее преступление. Надо было видеть и знать, как делили чудовищно. Вплоть до того, что триптих Матисса – одна часть ушла в Петербург, две остались у нас, все это делалось в спешке. Потом мы обменяли, но это другой вопрос. Если бы это было начало перестройки, и мы бы тогда занимались этой темой, мы бы вернули, наверное, эту часть Москву, потому что эта коллекция была очень московская.
В Петербурге в то время, в конце XIX – начале ХХ веков, не могли собирать таких вещей. Там был главным собирателем царский двор. Они собирали изумительные, великие вещи, но не эти. Это могли собирать только в Москве. Щукин прямо говорил, что все он собирает для Москвы. И конечно, наличие музея, в котором была 51 картина Пикассо, 48 картин Матисса – огромные коллекции художников этого величайшего перелома от классического наследия к новому времени, имеющие огромное художественное значение, историческое, если бы это было собрано в Москве.
Ровно год назад так получилось, что я оказалась на встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, он собирал деятелей культуры, но там можно было задавать вопросы. Я задала вопрос, что настало время, на мой взгляд, вернуть эту коллекцию в Москву и восстановить этот музей. Потому что в то же время, когда убили этот музей, запретили играть музыку Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, запретили поэзию Ахматовой, литературу Зощенко. Одним словом, это было вселенское гонение на деятелей культуры. Все восстановили, построили храм Христа Спасителя, то есть было сделано много справедливого. И вот этот музей остался таким невоссоединенным. И главное, что Москва лишилась этого потрясающего музея – без всякого преувеличения настоящей Мекки современного искусства в мире.
Только в ХХ веке возникли музеи современного ХХ же века. Это был Музей новозападного искусства в Москве, музей в Нью-Йорке. Я ответственно заявляю, что если бы обе коллекции в музее были бы соединены, то он был бы сильнее музея Нью-Йорка. Этих музеев не так много. Это "Музей королевы Софии" в Мадриде, но туда перешла и "Герника" Пикассо из Прадо. Прадо отдал все современные картины и там получился замечательный музей. Есть музей "Тейт Модерн" в Лондоне, замечательный по-своему музей, но не имеющий доли тех потрясающих ценностей, которые были в этом музее. Он потом развивался, но основан Щукиным и Морозовым. Из крупных музеев такого типа – центр Помпиду, но он возник в 1980 году, 35 лет тому назад, музей, который близко не стоял с этой коллекцией, уже не было этих произведений, неоткуда было их достать. Это музей абсолютно бесценный. И хотя потом коллеги мои из Эрмитажа неправильно повели себя, сумели весь этот замысел разрушить, но есть надежда, что не навсегда. И надо продолжать бороться за воссоединение дома-музея. Это будет величайший, исторический акт справедливости. Уж коль что-то в нашей стране стараются сделать, я думаю, что это не труднее, чем вернуть Крым. Кстати говоря, это бы не получило никакого отрицательного зарубежного отклика. Напротив, очень многие мои коллеги посчитали бы это нормальным явлением. Но хорошо, будем наблюдать за этим и прилагать усилия.
Так каким же должен быть, на мой взгляд, современный музей? Повторяю, не современного искусства, а музей, который должен быть создан в наше время. Очень много для этого уже сделано, мы продвигаемся по этому пути. Особенно во второй половине ХХ века возникло очень много направлений деятельности, которые не имели большого развития до окончания Второй мировой войны. Прежде всего, речь идет о так называемом выставочном буме, о выставочной работе музеев. Конечно, выставки делались и в XIX веке. Посмотрите на литографии того времени и вы увидите, как люди смотрят картины. Приходят на вернисаж. Очень интересно. В центре зала все скопились и говорят друг с другом. Все стоят спинами к картинам. Эта карикатура Домье очень справедлива. Сейчас на современных вернисажах, на которых присутствуют люди, специально приглашенные, они не смотрят на стены, они смотрят друг на друга. Выставка получила совершенно новый размах. Почему? Этому есть несколько причин. Огромную роль играет какой-то новый климат, особенно сразу после окончания войны. Кончилась война – возник какой-то особый интерес друг к другу разных стран. И что очень важно, очень быстро развивались новые транспортные возможности, особенно авиация. Возможность быстро прилетать, приезжать, смотреть, уезжать, перевозить художественные ценности. Возникла необходимость этих обменов как средства взаимопонимания, как это ни звучит напыщенно и, может быть, привычно, но это именно так.
И тогда, это было в 1969 году, я привезла выставку наших импрессионистов в Лос-Анджелес, тогда был такой деятель Хаммер, он помог в организации этой выставки, и там собралась огромная пресс-конференция. Мне задавали много вопросов, но я спросила: "А чего вы так волнуетесь по поводу нашей выставки? Она замечательная. Но ведь ваши музеи переполнены замечательными картинами этих художников, и Дега, и Ренуар, и Моне". Они сказали: "Но ведь это же из России, нам интересно, это у вас есть, это вы цените, вам это нравится, вы это любите?" Я бы сказала, это был материал для сближения.
И вот начался этот выставочный бум. Кстати, он потряс нашу страну. Какие выставки прошли! Сейчас когда думаешь, боже мой, чего здесь только не было! 100 шедевров из "Метрополитен-музей", и приходят картины Гойи, Эль Греко, Рембрандта. Просто невероятные богатства художественные приходят в Россию. Выставки из Парижа, включая картины Делакруа, Ватто, Пуссена и других. Наконец, в 1974 году приходит "Джоконда", вообще, кроме Парижа, была только в Японии и Вашингтоне. Одним словом, это целый шквал выставок. Он продолжается до сих пор. Посмотрите, как развертывается эта работа, в какие центры колоссальные превратился Лувр, особенно выставочный корпус в Париже, где проходят фантастические выставки.
Что происходило еще. Все больше на поверхности стали появляться материалы целых цивилизаций, о которых мы имели очень мало представления. Я имею в виду Африку, Японию, Китай и так далее. И стало ясно, как он был недооценен, как мы все сосредоточились только на европейском искусстве. Больше того, на огромные пространства, вплоть до Америки и Японии стали проникать произведения русского искусства, которое, откровенно говоря, никогда не ценилось на Западе, совсем не ценилось. Его не покупали, его не приобретали. Нигде нет коллекции русского искусства. Сейчас они появляются, но какие – русский авангард. Малевич, Филонов, Гончарова – все, несколько имен. В центре Помпиду, в Америке. Больше нигде русского искусства нет. Я как-то говорила, он уже многие годы мой приятель, директору Лувра: "Что вы знаете из русского искусства?" Он подумал и сказал: "РепИн, ВерещИгин". Все, больше он ничего не знал. Но у него не было ни Репина, ни Верещагина, он только слышал, он образованнейший человек.
Стали появляться выставки. Я не могу сказать, что у них был грандиозный успех. Но успех одной из последних выставок, на которой я была, в Лувре русского искусства все-таки был очень большой. Но была русская икона. Собрали потрясающую выставку. Потом ее показали, очень плохо показали, частично, в Манеже. Но собрали отовсюду, с Вологды, с разных мест. Я сама была потрясена. Я очень люблю древнерусское искусство, но такого я не видела. Вот она немного потрясла сознание. Как ни странно, с огромным успехом прошла выставка Репина в Гамбурге. И там он очень понравился. Все знают литературу Толстого и Достоевского, музыку Шостаковича играют по всему миру, а пластические искусства России – их же не знают в мире. И просто потому, что нет коллекций, их не существует.
Вот весь этот бум выставочный захватил и нас в том плане, что мы что-то стали показывать. Нас довольно хорошо знают в Японии, японцы очень любознательные. Вы не представляете, какова система просветительская и образовательная в Японии. Невероятно высокий уровень! Я была приглашена их Министерством образования на три недели в Японию. Я очень многое в этом плане там поняла. В частности, как они учат пониманию изобразительного искусства, пластических искусств. Они мне показывали: у них исследования, где дети в школе различают более 200 оттенков одного цвета. Что-то невероятное! Их постоянно возят на все памятники отечественные собственные, их возят на выставки. Очень сильная школа, надо признать, там на Востоке… Поэтому столько японцев вы видите в музеях Европы. Правда, сейчас вы видите еще больше китайцев. Это явление все последнего времени.
Одним словом, выставочный бум очень интересен. Выставки становятся все более интересными по концепции. Это не просто ознакомление – шедевры Лувра, шедевры Метрополитена, шедевры Прадо. Это мы все показывали, поэтому я об этом говорю. Они становятся более познавательными, более прицельными. Скажем, привезли выставку Караваджо. Там было 11 картин, но ни один музей мира не мог привезти к себе эти картины Караваджо. Это очень трудно. Притом из одной страны – только из Италии, действительно потрясающие вещи. Я видела людей, которые многократно приходили на выставку, она их потрясла, потому что это один величайших художников мира. А работал он в первой половине XVII века в Италии. Мы привезли выставку Тициана.
Очень любим выставки одной картины, потому что считаем, что это очень интересно, когда зритель приходит и думает: "Что это, я пришел ради одной картины? И почему ее привезли? Что она значит?" Он начинает смотреть на нее уже по-другому, вдумчиво он открывает для себя целый мир. Мы привозим, конечно, шедевры. Это огромная школа искусства, и все это очень важно. Конечно, любой музей должен устраивать выставки непременно. Выставки – это обновление зрения. Музей, скажем, который в Москве, я могу пойти и потом и потом. А выставка – она временная, она бывает недолго, надо успеть. И конечно эти вливания очень перспективные для будущего.
Относительно недавно к нам приехала группа людей, которые сказали, что они хотят сделать у нас выставку, посвященную выдающемуся деятелю культуры ХХ столетия, писателю, эстетику, был министром культуры Франции Андре Мальро. Крупная фигура, очень интересный человек. Я оказалась с ним знакома. В начале 1970-х годов он побывал в России, посетил наш музей. Я ему часа полтора показывала импрессионистов. Он не знал коллекцию и был просто потрясен ею. У него вышла книга, называлась она "Воображаемый музей".
И вот когда мы отмечали 100-летие нашего музея в 2012 году, мы назвали выставку, которую мы сделали на этот год, "Воображаемым музеем". Почему? Что он предлагал? Естественно, каждый музей не может иметь все. И вообще время этих музеев, таких левиафанов, в которых есть все, оно проходит постепенно. Эти музеи себя не изживают. Но, во-первых, они не имеют перспектив на развитие, потому что как ни достраивают Национальную галерею в Лондоне, как ни достраивают Лувр, строя пирамиды, углубляясь под землю, отдавая Министерство финансов Лувру, корпус старинного дворца тоже отдали Лувру, все равно не хватает места для показа художественных ценностей. Причем этими достройками (кстати, этим занимается и наш музей) занимается весь мир. Потрясающе сейчас достроили музей в Бостоне, Прадо – построили целый корпус для XIX века. Эти достройки старых музеев неизбежны. В Германии все время достраивают музеи. Совершенно очевидно, что эти музеи необозримы практически, кто скажет, что он обошел весь Лувр до конца? Мало людей, которые могут это сделать, особенно когда они приезжие. Это практически невозможно.
Приобретают значение музеи небольшие, но это ничего не значит. Воображаемый музей можно строить и на временных выставках, предлагая выбор, предлагая делать акценты на тех произведениях, которые вы считаете важными. Вот мы постарались нашу экспозицию заполнить целым рядом вещей, которых у нас нет и быть не могло, и никогда не будет, потому что перераспределение самых крупных сокровищ в мире практически закончены. Я даже не хочу об этом думать, но уже никакой новый Наполеон не сможет увезти художественные ценности из какой-то страны, это все невозможно. Но вместе с тем, это расширительное представление, что может искусство, какие пути, в том числе для современности, хранятся в старом наследии, это расширение в наших знаниях, в нашем понимании должно происходить. С одной стороны за счет, конечно, выставок.
И то, что имеет в наше время огромное значение, это новейшие технологии, это интернет, это телевизор, это репродукция. Наш век весь репродукционный. С одной стороны это демократично, мы имеем доступ ко всему. Хотите знать, что есть в "Метрополитен", откройте соответствующий сайт и найдете. Но, с другой стороны, эти средства, когда мы слышим музыку через наушники, а видя художественные произведения через интернет, – это очень опасный путь особенно для молодых людей. Правда, сейчас возникло больше возможностей для поездок, для осмотра и так далее. Но все равно, это опасный путь. Очень большие группы людей начинают думать, что они все знают, потому что они посмотрели это в интернете. Но они с невероятной скоростью удаляются от подлинного понимания ценности искусства, от открытия всех тех невероятных богатств, которые содержатся в искусстве. Информационно это чрезвычайно важно. Когда вы едете в какой-то музей мира, вы должны понимать, вы должны хорошо готовиться, вы должны знать, с чем вы встретитесь, что вы увидите. И это все возможно через интернет, через другие источники – книги, репродукции и так далее. Но видеть и соприкасаться надо. Главное – это ваш диалог прямой, непосредственный с художественным памятником. И только тогда вы поймете, что такое настоящее великое искусство, и получите всю полноту, которое оно способно вам доставить. Что я получаю от искусства? Да, какой-то информационный материал, образовательный, просветительный, но это не самое главное. Самое главное, что мне дает музыка, настоящий спектакль в театре или художественное произведение, это ощущение особенное. Если я прониклась этим художественным произведением, а великие произведения неисчерпаемы, они не имеют дна. Вот вы прочитайте "Войну и мир" сейчас, а потом прочтите через пять лет. И вы удивляетесь: я же это не видел, я это не запомнил, не прочел, не знаю. Вы слушаете музыку довольно спокойно. Но однажды вы пришли в зал, сейчас позволяет приходить, и вам это интересно, и вы вдруг начинаете понимать, что это проникает в нас. Это и есть счастье, самый счастливый момент в жизни. И знаете почему? Не только потому, что вы сейчас получили наслаждение, а потому что вы почувствовали – вы на одном уровне с создателем, будь то Толстой, будь то Шопен, будь то Рембрандт. То есть вы понимаете, что понимал он и что он вложил. Это ваш уровень, вы в себе открыли эти качества. Вы думаете, что вам помог Рембрандт, но вы их открыли в себе.
Маленький пример: у нас есть студия, ребята, мальчики-девочки, приходят в музей, смотрят картины, а потом им говорят: идите и напишите, сделайте картинку, что вам понравилось, как вы ее восприняли. И вот мальчик видит старого нищего с мальчиком, Пикассо. Вы помните эту картину. В синем сидит изможденный старик на земле, поджав ноги, рядом с ним мальчик в тюбетейке, прижавшись к нему. Два нищих на панели. Это любимые образы раннего Пикассо голубого периода. Эта замечательная картина у нас в музее. И мальчик держит в руке яблоко, которое он подносит ко рту. Что мы увидели на картине мальчика девяти лет, который написал свое впечатление от картины? Все как-то неумело, примитивно, но он изобразил старика, он изобразил мальчика. Но каков жест мальчика? Мальчик отдает, протягивает яблоко старику. Ему жалко его, понимаете, в нем возник порыв сочувствия – у него есть, а у него нет, дай-ка я ему тоже дам. Это дорогого стоит. Ради этого искусство. Так искусство несет добро. Оно, во-первых, помогает отличать зло от добра, доброе от недоброго – это важнейшее качество. Наверное, поэтому Достоевский имел право сказать, что красота спасет мир.
- Ирина Александровна, вы ходите на работу и делаете это много лет, и вы имеете возможность выбрать тот путь, которым вы идете на работу по своему музею, всякий раз заново. Менялся ли этот путь с годами, и, может, этот путь и есть ваш воображаемый музей, который вы можете каждый день для себя создавать?
Антонова: Видите ли, я не всегда была руководителем музея, директором, сейчас президентом. Я сидела совсем в другом помещении, естественно, что я проходила через весь музей. И проходила не только днем, но и ночью, потому что я давно начала работать в музее. В 1945 году 10 апреля я пришла на работу после окончания университета. Музей находился в жутком состоянии, экспозиции не было, вещи только-только пришли из Новосибирска. Я там находилась в разных местах, естественно, я всегда ходила через музей, через все его залы. Как вам сказать? Идея такого воображаемого музея – всегда мне было понятно, что чего-то в музее не хватает, хорошо было бы иметь такие-то и такие-то произведения. Но постепенно, с развитием выставочной деятельности музей действительно стал дополняться новыми вещами, которым восполняли все время это впечатление о том, что есть искусство. Вот только что у нас закрылась изумительная выставка древнего китайского искусства. Так что такие возможности были всегда.
- Ирина Александровна, скажите, пожалуйста, как вам фильм Парфенова "100 лет музею"? Вчера я прочитал в интернете, что вы Фостеру отказали, и кто-то другой будет делать новую концепцию музея. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Антонова: Что касается фильма Парфенова, я вам должна сказать, что была им недовольна. Я Леониду об этом сказала. Он действительно увлекся образами Щукина и Морозова, но он делал фильм все-таки к 100-летию музея. У нас, конечно, достойнейший кусок истории – это жизнь Ивана Владимирович Цветаева, основателя. На мой взгляд, он неправильно поставил акценты в этом фильме. Но он старался, он сделал этот фильм.
Теперь что касается Фостера. Я не только ему не отказала, я сделала все для себя возможное, чтобы он остался в проекте. Я считаю, что его проект был замечательный. Это очень долгий разговор, наверное, его не здесь вести. Его весь этот проект замечательный, на мой взгляд, запороли, только не музей, а те, кто имел свои виды на те территории, на которых мы планировали этот музей. И они добились своего, потому что в 2013 году у нас отобрали одну часть, а немного раньше отобрали другую. И тогда Фостер сам отказался. А архитектор он изумительный.
- Ирина Александровна, жутко интересно, как функционирует музей, потому что это такое учреждение таинственное. Мне про две вещи очень интересно. Как устроены запасники Пушкинского музея? Это просто лежат какие-то работы и лежат и просто их протирают тряпочкой? То есть как функционирует вот эта подводная часть айсберга? И мне еще интересно, был ли в советские годы в Пушкинском музее особый отдел? Если был, то чем занимался?
Антонова: Что касается запасников. Это одна из таких легенд вообще, которая существует у зрителей. Да, действительно, любой современный музей, будь то Метрополитен или Лувр, я была в запасниках Лувра, выставляют очень небольшую часть того, что в нем есть, и с годами все меньшую, потому что площади увеличиваются, но не в той прогрессии, в которое все-таки увеличивается количество экспонатов и предметов. Это процесс особенный. Все выставлять и не надо, если иметь в виду показ зрителю. Не потому, что это от него скрывают. Скажем, есть голландский художник XVII века. У нас 17 его картин. Мы показывает четыре. Эти четыре рассказывают абсолютно все об этом не очень крупном художнике. А если мы имеем пять Рембрандтов, то все пять Рембрандтов висят. Если мы имеем 21 Клода Моне, то все 21 в экспозиции. Но в музеях невольно накапливается материал, который не представляет всеобщего интереса. Это можно показать, иногда на кратковременных выставках это делают, но это необязательно. Бывает иногда жалко, действительно не хватает места для чего-то важного. Мы показываем очень небольшую часть экспонатов, но по разным причинам. Конечно, все главное, что у нас есть, мы показываем. Но, например, у нас уже 370 тысяч рисунков, гравюр, то есть продукции на бумаге. А ее и нельзя показывать каждый день. Согласно существующим законам во всем мире, бумага может не больше трех месяцев на освещении, любом, искусственном или натуральном. Причем особое количество люксов, не больше 25. Она желтеет, сохнет, разрушается, и вы потеряете памятник. Через год-полтора, лучше через три вы можете эту вещь показывать снова. Так мы делаем гравюры Дюрера. У нас 250 офортов Рембрандта. Мы не можем их держать все время. Мы показываем частями, через определенные периоды. Так что это особенности хранения. Конечно, огромное количество музеев не имеет необходимой площади. Лувр показывает не больше 0,1 того, чем он владеет. Нумизматический материал – примерно 200 тысяч предметов. Но, к сожалению, у нас нет места. В новом месте, музейный городок мы хотим построить, там будет несколько залов, связанных с нумизматикой. Сейчас мы показываем очень мало. У нас прекрасные коллекции медалей, монет. Их можно показывать сколько угодно, они не пострадают от этого, но места у нас нет. Это, конечно, большая беда. Хранятся они нормально - в хранилищах, но у нас очень плохо с помещениями, там очень тесно. И сейчас в новом проекте музейного городка мы обязательно строим депозитарий. Там будет часть открытого хранения, такое хранение есть в Лондонской национальной галерее. Там вещи висят тесно, одна к другой, но их можно видеть. Любой человек может спуститься в подвальные части и посмотреть, если ему это интересно. Главные вещи висят, конечно, в главных экспозиционных залах.
У нас не было особого отдела, но в отделе кадров была, конечно, секретная часть так называемая. Там могли быть документы, связанные с историей музея, с какими-то событиями, которые до поры до времени не подлежали публикации.
- Какие?
Антонова: Это могли быть самые разные документы. Часть из них какой-то период была связана с перемещенными ценностями. Это те вещи, которые поступили в Советский Союз в разные музеи, библиотеки, в том числе и в наш музей. Это то, что было вывезено из Германии после окончания войны, в том числе Дрезденская галерея. До поры до времени эти документы не подлежали по разным причинам (я могу быть с ними не согласна, я и не согласна с тем, что ее отдали назад, но это другой вопрос) публикации, а сейчас это все открыто.








 Собянин: обеспечили электроэнергией и допмощностью более 11 тысяч объектов
Собянин: обеспечили электроэнергией и допмощностью более 11 тысяч объектов