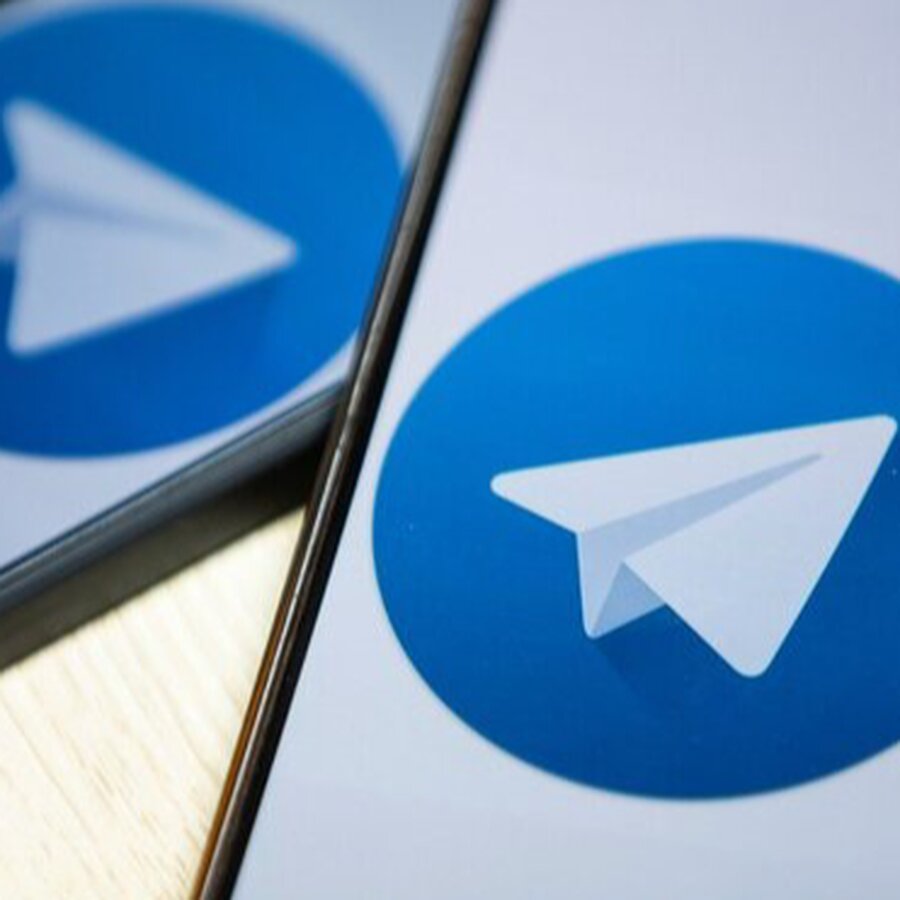Антон Мазуров в рамках курса "История Киноглаза: авторские способы документирования реальности и прошлого" рассказал о творческом методе Йориса Ивенса. Слушатели узнали о том, почему Ивенса считают лучшим режиссером неигрового кино ХХ века, а также познакомились с его творческим методом, позволившим запечатлеть на кинопленку эпоху и общество, современные режиссеру. Сетевое издание M24.ru приводит полную текстовую версию лекции.
- Человек, который называл себя Йорис Ивенс, – он на самом деле не Йорис, у него есть очень важное для меня слово в имени, в оригинальном (Йорис – это псевдонимное имя). Его зовут Жорж-Анри-Антон. Поэтому мне очень приятно, что его тоже зовут Антон. Это популярное имя в Голландии. Вот этот Жорж-Анри-Антон Ивенс – он назвал себя Йорис Ивенс. И так случилось, что он фантастическим образом ровесник кинематографа – он родился с кинематографом в один год – в 98 году. И, в принципе, по тому, как он себя вел в кинематографе (а прожил он до 89 года, ну, то есть почти 90 лет, даже больше) так как он себя вел – он мог вести себя бесконечно в кинематографе. Так вот если вспоминать про американские всякие слоганы и короткие фразы, если б кто-то подошел ко мне и бессмысленный вопрос задал бы: "А кто самый главный неигровой режиссер XX века?". Понимаете, бессмысленность этого вопроса. Кино мы любим как раз за разнообразие, за то, что там каждой твари далеко не по паре. Я бы ответил совершенно однозначно – Йорис Ивенс. То есть фигура такая вот важная. Почему? Сейчас попробую объяснить.
Это на самом деле это я бы ответил, а я воспитывался здесь, в России, в Советском Союзе родился. А так сложилось, что какие-то сложные, защемленные связи у Ивенса были с этой страной просто потому, что, несмотря на то, что он родился в католической семье (из среднего класса человек, из богатой семьи), он по взглядам очень быстро, вначале 20-х уже сформировался как коммунист. А коммунист – это при СССР. И так сложилось, что в тот период, в который Ивенса воспринимали как часть коммунистической идеологии и пропаганды, отложилось преподавание ВГИКа. Я учился во ВГИКе и мне изначально преподавали, что Ивенс – вот, он один из главных. И, в общем, я это запомнил еще как идеологию. А потом, когда уже начал вникать и разбираться – тем не менее, согласился с этим тезисом, который остался еще от старого советского ВГИКа. И вот, в общем, в этом парадокс Ивенса, что он проходит как главный режиссер и по старым канонам каким-то забытым, изгнившим частично, вот, и по любым другим канонам.
Вообще сам он себя, прожив 90 лет в кинематографе и умерев буквально на последнем своем фильме во время работы над фильмом, во время работы над монтажом вот над этим фильмом, который мы будем сегодня смотреть, он стал изначальным таким синонимом кинематографа. И фигура была парадоксальная, и он сам это понимал и называл себя канатоходцем, который ходит без страховки. Но с другой стороны, канатоходцем его назвать нельзя, потому что скорость движения Ивенса по планете и вообще в кинематографе была высокая, реактивная. Не зря это единственный кинематографист голландский (а Голландия в принципе с одной стороны, богата кинематографистами, если ретроспективно последние там 120 лет смотреть, с другой стороны, когда там возник Ивенс – была страной абсолютно без кинематографической культуры, страной кинематографически бедной.).
Так вот, это единственный кинематографист голландский, которого называли классическим голландским немо, Летучим Голландцем. На нем такая крылатка надета, наверное, он знал, что его так называют. Его называли также, например, Гарибальди с камерой за коммунистические взгляды, за некупосионарность его камеры. Парадокс вот этой двойной фигуры в том, что, я уже говорил, родился в католической семье богатой, и как противовес, видимо, ему был необходим вот этот вот коммунистический бэкграунд, и взгляды сформировались очень быстро. Именно как коммунистические. Не социалистические, не какие-то. Он не был сталинистом, он не зацикливался до 70-х годов ни на какой личности лидеров коммунистической идеологии, пока не споткнулся о тело Мао Цзэдуна. Но это была уже какая-то возрастная история – про нее я попозже расскажу.
Короче говоря, парадокс в его личности был не только связан с тем, что "богатая-бедная". А богатство родителей его помогло ему в 2 вещах: во-первых, он был свободен. Да, он мог поехать в Париж, туда-сюда, он учился везде. Он уже был такой униевропейский образованный человек. Начал учиться сначала в экономическом колледже на юриста, потом он учился в Роттердаме, хотя родился в Неймегене, маленьком городке голландском. Потом учился в Дрездене и Берлине, учился оптике, учился химии, связанной с кинематографическим производством. Вот это свобода – потому что были деньги, можно было передвигаться. Вторая история связана с тем, что еще его дед имел фотолавку, и в этой лавке помимо того, что он фотографировал, он продавал фотографии, выставлял в витрине фотографии – там знаменитые какие-то священники, жертвы Парижской коммуны 1871 года. Потом также делал его отец.
Через 2 дня после начала Первой мировой войны уже в окне витрины (а у отца Ивенса была уже сеть фотомагазинов в Голландии), в окне той витрины, в которой отец сидел как в офисе, уже стояли фотографии Первой мировой войны. То есть Ивенс на генетическом уровне впитал привязку к документу, к хронике. Он жил в истории, в большом времени, в истории с большой буквы изначально. Поэтому это такой кинематографист по природе, по природе, которая пришла в кино с фотографией и по природе хроники, которая пришла из истории. В общем, он учился-учился-учился, но еще до всякой учебы в 14 лет, когда еще Роберт Флаэрти, про которого я рассказывал в прошлый раз, даже не знал, что такое кинокамера всерьез (как вы помните, он впервые кинокамеру увидел в 1915 году и первый фильм у него, который увидела публика – это 22 год).
Так вот, уже в 14 лет, т.е. в 1912 году Ивенс снимал кино на кинопленку, снимался в нем как актер. Сценарий был его. Играли 13 человек, его семья: отец, мать, дети, братья, сестры и их друзья. Фильм назывался "Вигвам". Все снималось на летней даче Ивенсов. Это очень короткий фильм, по-моему, 7 минут или 8. Начинается с понимания природы фотографии, кино, с понимания иронии над всем над этим и самой иронии. Сначала появляется довольно лысый молодой Ивенс. Он стоит, как будто он снимается на камеру в фотомастерской. Потом появляются по очереди отец и мать, девочка. Они появляются, кланяются все хором, и потом по одному также в разные стороны исчезают. Потом он один раз поднимает младшую сестру, ее как бы показывает отдельно, тоже исчезает. Потом возвращается один и как автор кланяется еще один раз. После этого начинается фильм. То есть то, что он понимал, что в кино заложена игра, что кино – это то, как ты его чувствуешь, то, как ты его делаешь сам ручками. Вот сразу в 14 лет, с первого фильма. Хотя после этого прошло очень много лет, когда он ничего не снимал, ничего не показывал. Первая картина официальная его – это уже 26-й год – 28-й.
Значит, "Вигвам" - сюжет очень простой, несмотря на то, что снималось в Голландии и бюджет был, вы понимаете, карманные деньги семейные. Там шились костюмы, парики. Все серьезно. Все одеты в индейцев и в американцев. Сюжет происходит, естественно, на диком западе. Благородное семейство оставляет невнимательную маленькую девочку поковыряться в песочке перед домом, и злобный индеец с непонятных соображений педофильских, значит, ее крадет. Ну, и уносит в лес. Но есть другой индеец, который называет себя Пламенная Стрела. Его, естественно, играет Йорис Ивенс, который в общем в кино особо не лез. Включая «Вигвам» и вот эту картину "Сказка ветра" он еще 4 раза в чужих фильмах, в небольших, в маленьких ролях появлялся. В общем, никакого нарциссизма и эксгибиционизма в нем не было. Вот этот Пламенная Стрела – он быстро разбирается, в чем дело, спасает эту девочку, возвращает ее в семью. И потом там финальная сцена такая, вполне себе карнавальная, как положено: сидит вся семья у вигвама, как и называется фильм "Вигвам", Пламенной Стрелой передавая трубку мира - раскуривает вся семья, включая маленькую девочку эту. Значит, они делятся деталями того, как он ее спас. Вот это 14 лет.
Потом перерыв в изучении наук, искусств. И главное событие, которое случается в 26 году – он смотрит это официальное и по его каким-то заметкам (это не остатки старого ВГИКа), он смотрит "Мать" Пудовкина по книге Горького, и это как-то на него влияет. Помимо этого встреча с Парижем. Париж... Это один из тех кинематографистов, который был задет Парижем навсегда. И собственно говоря, много лучшего, на мой вкус, в частности, что связано с Парижем, осталось в его фильмах. Один из этих фильмов мы будем сегодня смотреть.
Значит, вот Флаэрти и Ивенс. Как уже сказал, Флаэрти считается отцом неигрового кино и, на мой вкус, первым автором неигрового кино. Повторю цитату Джона Пирсона, замечательного теоретика кино, журналиста и создателя британской школы продюсера, создателя британской школы неигрового кино 30-х годов, друга Флаэрти, друга Ивенса. Он говорил, что если Дзига Вертов все время говорил о киноглазе, то у Флаэрти киноглаз был. Вот если сравнивать Флаэрти и Ивенса, у Ивенса было 2 киноглаза. И потом к концу жизни, вот ближе уже к этому фильму, третий открылся, совершенно очевидно. Это в ретроспективном просмотре невозможно не заметить.
Он абсолютно революционное оказал влияние на неигровое кино, но главное, он оказал влияние на кино вообще в целом, потому что он, оставаясь с самого первого появления вот этой парадоксальной фигурой, качающейся на канате, он изменил все. Он, во-первых, сразу свел неигровое кино с другими жанрами искусств, потому что первый его фильм «Мост» - это было стихотворение, то есть, в принципе, если мы будет оценивать по итогам Ивенса – это…. Если Флаэрти – этнограф с киноглазом и утопист по природе своих взглядов, в которых все люди заслуживают счастья и, несмотря на то, что он путешественник, он был далеко не Летучим американцем. В сравнении с Ивенсом он вообще не видел мир, несмотря на то, что снимал везде и на экзотических островах.
Так вот, Флаэрти – этнограф, Ивенс – прежде всего поэт, вовсе не режиссер-документалист, потом он режиссер-авангардист. Причем он, как представитель кинематографического авангарда, проявлялся в несколько десятилетий – в 20-е, в 50-е и к концу жизни в 80-е. Помимо этого он смешал все в кинематографе. Он смешал понимание того, какие взаимоотношения у человека, который стоит за камерой и человека, который стоит перед камерой. Никто радикальнее, чем он не подходил к этому вопросу. И это принципиальные вещи для меня, потому что то, что я люблю в неигровом кино – оно связано с возможностью зрителя раствориться в авторе. То есть вот это смешение автора и зрителя, которым не мешает ни камера, которая снимала кого-то третьего между ними, ни экран, на который все это проецируется. То есть очень важные вещи, высшее достижение в этой области. Я попозже опишу. Оно пришло к Ивенсу в 50-е годы. Потом он также, как Флаэрти, чем они похожи, они отличаются, - он оплодотворил огромное количество людей творчески, то есть прикосновение к Флаэрти оставило каких-то людей навечно травмированными кинематографом. Но прикосновение к Ивенсу сделало это с гораздо большим количеством людей.
Если и дальше сравнивать, Флаэрти, родившийся в бедной американской семье, обедневшей после кризиса в 80-90-х годов ХІХ века, то по психологии своей, несмотря на утопические взгляды, он все-таки был такой режиссер мелкобуржуазный как принято, даже с коммунистической точки зрения это называть. Несмотря на то, что собственность физическая у него появилась – домик на севере штата, где он жил, появился только к концу 30-х годов. И он был скопист, любил прятаться. Он не справился с войной, поскольку был утопист, а война, катастрофы, несмотря на то, что он пытался работать с Капрой, а Ивенс тоже работал с Капрой, все работали во время войны западные документалисты с Фрэнком Капрой, снимали пропагандистское антивоенное кино на американском континенте и не только. Ну, так вот, Флаэрти этого не смог, сбежал туда в домик к себе, и там прятался. Ивенс никогда не прятался.
Он вообще был первый документалист-репортер. То есть если говорить самое важное о нем, то это та творческая личность, которая характерна особенностями того, что называется "жизнь ума". Термин "жизнь ума" - это, так сказать, термин Ханны Арендт. Это крупнейший политический философ и публицист ХХ века, когда-то ученица и возлюбленная ключевого экзистенциального философа ХХ века Мартина Хайдеггера. И финальная ее книга, которая не до конца завершена была – закончилась ее неожиданной и скоропостижной смертью – "Жизнь ума" предполагает, что любой ум творческий и любая жизнь творческого ума делится на 3 такие важные стадии: мышление, волнение и суждение. Вот если привязывать это к Ивенсу, то то, чем он и характерен как творческая личность – главная история у него была с волнением. Вот это волнение, этот требл, который он ловил в окружающей среде, заставлял его метаться по планете. Я с трудом могу назвать территории мира, где он не побывал. Он глобус объездил, начиная с 20-х годов, много раз, и скорость его передвижения по Европе была равна вот нынешним нашим возможностям, когда любая Airway за 20-30 евро довезет в любой конец Европы за час.
Вот он как-то так летал. И везде он ловил то, что опять же, если возвращаться к немецкой философии – называется термином Zeitgeist - "дух времени". То это человек, который считается мною, например, но не только мною, крупнейшим документалистом ХХ века, не потому что он ловил этот Zeitgeist. И естественно время можно разбить на какие-то отрезки, на десятилетия, на еще более короткие – и у каждого свой Zeitgeist, и можно видимо какой-то вектор выстроить, если увлекаться этим. Вот помимо того, что он был поэт, он был социолог. И Флаэрти, собственно, как автор, нашел своего героя. И впервые в неигровом кино это был человек, это был один человек, одно лицо человека, одна фигура человека. Это был крупный план человека или средний план человека. Но общий план уже его мало интересовал. Ничего такого не было у Ивенса, у него никогда ни в одном фильме, кроме вот этого последнего. Нету никакого героя. У него всегда героем является масса. Не зря он был коммунист. Он говорил: "То, что изменилось при производстве, при репродукции, когда появилось техническое воспроизведение произведения искусства – это новый герой – масса, массовое воспроизводство. Оно было рождено новым героем – массой". Так вот эта вот масса, родившая себя как нового героя, это было то, что интересовало Ивенса.
Это не значит, что в его фильмах мы видим какие-то стройные колонны, хотя их тоже увидим, но в другом контексте, марширующих масс коммунистических. Нет, такого ничего нет. Но его интересовала масса как стихия, он занимался стихией. У него фильмы со словами "ветер", "земля". Это очень характерно для него. Он умер на фильме про ветер, а это не первый его фильм про ветер. Ветер, вообще, главный его герой, и сам он, в общем, ветер. Такой мистраль. Он должен был снимать следующий фильм, посвященный стихии – пламени. То есть он сам понимал, что стихия – это то, что его интересует. Вот стихия масс – это то, что его интересовало. Он понимал, что она в том веке, в том экстремальном веке с экстремальными жертвами, с экстремальными переходами из состояния в состояние, стихийными переходами, он фиксировал этот век как игру стихии.
Значит, сейчас пробегусь по его фильмам. Я сразу скажу, что 48 картин, из них мне удалось увидеть 23 картины. Последняя коробка большая Ивенса вышла в 2004 году в Голландии. Есть фонд, Европейский фонд Ивенса и журнал ежемесячный – "Ивенс" называется, – его бесплатно можно скачать на сайте этого фонда на английском языке. Вот в 2004 году вышла последняя его коробка коллекционная в Голландии, то бишь на родине, которая очень богата документалистами и все они очень подробно коробками изданы – там можно сразу Йохана ван дер Кейкена купить или, там, Ханстру, или кого-то еще. Но меня коробка эта удивила – там было всего, по-моему, 21 или 22 картины. Все остальное не откопано. Не то, что это погибло, все это есть. Но вот этот вихрь, который носил Ивенса (Летучего Голландца) по планете, приводил к тому, что время менялось быстрее, чем его интересы, и гибли те государства и те правообладатели, скажем юридическим языком, с которыми он работал, как, например, погибло ГДР, где он много лет работал. И там где-то эти фильмы закопаны и видимо голландцы не нашли в себе каких-то сил, мужества, не знаю почему, все это откопать и собрать. Но вряд ли это можно считать идеологическим шлаком коммунистического режиссера. Тем более, что большая половина даже тех 28 фильмов – это, конечно, основные фильмы Ивенса. Больше половины этих фильмов – они вообще никак с коммунистической идеологией, с массами, социальными вещами не связаны. Они посвящены стихиям. Сейчас пробегусь по фильмам.
Значит, "Вигвам" я вам объяснил. В принципе его можно не смотреть, хотя, на мой взгляд, если вы по каким-то причинам захотите понять, с чем едят Ивенса – надо увидеть его молодого в 14 лет, выходящего поклониться камере.
Вторая картина, с которой он прославился (это 28-й год), – "Мост". Помните, я рассказывал, те, кто был, что когда вышел "Нанук с севера" – пошла эпидемия интереса к эскимосам, появились слова "каяк", "иго" в языках стран мира, включая английский, помимо того, что Флаэрти ввел и понятие "документальное кино" своим творчеством. Но главное, что появилось мороженое "Эскимо" и "Нанук" в других странах. Или мороженое "Эскимоти". Так вот, собственно говоря, Ивенс тоже оставил о себе память, но она у него такая более объемная. Он снял в дельте Мааса (Маас – это река в Роттердаме) он снял мост – чудо инженерной техники – металлический мост, который до сих пор там есть с момента, как он его снял вот в этом фильме (мост потом еще возвращается "Роттердам-европорт" – у него есть замечательный мой самый любимый фильм Ивенса, где этот мост возникает как аллюзия на собственное творчество такая автоцитата).
После того как он его снял и воспел, а это, я уже говорил, фильм-стихотворение, поэтическая работа, где камера Ивенса превращается то в глас чайки морской, то в глас лифта, который поднимает часть этого моста, то в глас поезда, который едет по этому мосту, - абсолютно поэтическая картина, воспринимается только как стихотворение с парадоксальным монтажным мышлением. Монтаж, вообще, одна из сильнейших сторон Ивенса. Вот этот мост был в Роттердаме назначен монументом, и монументом не потому, что чудо инженерной мысли, потому что такой же мост, даже старее и интереснее стоит там в Буэнос-Айресе. Я все время, когда приезжаю – фотографирую, потому что очень напоминает мост Ивенса. Но именно потому, что…Помните, в "Вишневом саде" "…шкаф, мой милый шкаф". Воспеть шкаф можно только в одной пьесе, да. И так же посвятить стихотворение мосту можно не в каждом своем стихотворении. Такое стихотворение одно.
Это первый период Ивенса. Это авангардный абсолютно период, когда, с одной стороны, он учился, но не режиссуре и не операторскому мастерству, а изучал оптику как техник и изучал химию производства пленки и самого процесса как химик, а не как режиссер. То есть у него, по сути, природное кинематографическое чутье и кинематографического образования нету. В первый период сразу выплеск авангарда.
Вторая картина, собственно, может характеризовать…Я бы ее поставил в название этой лекции, если б мне приходило в голову каждую лекцию называть. По-французски она называется интересней, чем по-английски. По-английски она называется "Изучение движений", а по-французски она называется "Этюды в движении". Это очень маленькая картина. Во-первых, она сразу нас бросает в Париж и мы мгновенно чувствуем то, как Париж (тот Париж 20-х годов) обжег Ивенса во всех смыслах. В смысле приезда из маленького города, где он развивался и рос в большой, хотя он уже был в Берлине и Берлин тогда был не беднее Парижа энергетикой и мощью. Но, тем не менее, этот ожог сразу чувствуется. Это тоже стихотворение. И стихотворение, где Ивенс показывает, как он чутко ощущает природу кино. Он играет кинематографическими техниками, он обыгрывает слово и смысл понятия "движение" как только можно, но при этом материал неигровой.
То есть он просто снимает на улицах Парижа. Условно говоря, знаете, есть этот мем российский "все, что движется" – в другом контексте он употребляется. Вот он там снял все, что движется в буквальном смысле. Это очень красиво. Это очень маленький фильм. Это вот знаете, если сейчас сделать какой-нибудь супермодный клуб в Москве и там транслировать на стенку что-то, вот у Ивенса, по-моему, больше, чем у кого бы то ни было, кроме видеоартистов, фильмов, которые можно транслировать на стенку, потому что там есть то, что принято называть киновидение – эффект чистого кино. Чистое кино – это когда вы смотрите на некое изображение, беспредметное часто, там осуществляется какое-то движение ритмическое, но собственно вам не важно, что там двигается. Вы смотрите – и происходит медитация. Вот эффект чистого кино. Это то, с чем работал Ивенс, отлично это понимая. Картина называется "Этюды в движении".
Третья картина известна больше других и опять же снята в Роттердаме. Голландия, вообще, довольно дождливая и ветреная страна. Стихии голландскому духу близки по природе. Картина называется "Дождь", снята в Роттердаме, и сюжет очень простой: город, люди, море. Дождя сначала нет, потом дождь начинается – и что-то происходит с людьми. Потом дождь заканчивается – и опять что-то происходит с людьми. Такой очень простой короткий фильм. Опять же стихотворение. Иногда говорят, что это поэма. Вот эти короткие фильмы. А вообще в своей истории режиссерской Ивенс – он опять же балансировал между двумя крайностями. Он не любил полнометры. У него, по сути, формально есть 1 полнометражная картина – "Семнадцатая параллель", почти 2 часа и 1 бесконечный сериал одиннадцатичасовой "Как Юконг передвинул гору". Но это уже в поздний период и оно заказано для одного канала. А все остальное – это двухчастевки, трехчастевки, максимум пятичастевки.
И лучшие его картины – это 20-30 минут, – ему хватало. В принципе, он мог вложиться и в 5. Ему хватало, потому что он владел монтажным ритмом и в любой временной кусочек могу вложить любое свое чувство, эмоцию вот в этой легкой визуально стихотворной форме. Итак, "Дождь". И собственно говоря, это входит в классику мирового авангарда. Зачем-то причисляется к классике французского авангарда, потому что там считается влияние золотого периода французского авангарда 20-х годов. Влияние на Ивенса. Но, думаю, нет. Он видел, естественно, и Летов повлиял, он видел, естественно, и Пудовкин повлиял. Естественно, он видел авангардные фильмы. Дружил со всеми лично. Он попал в самое жерло этой тусовки, где были и сюрреалисты и все остальные.
Значит, надо сказать, что в 22 году один из французских авангардистов, а они отличались удивительно тем, что не просто снимали авангардное кино, но каждый буквально теоретизировал на эту тему, оставил огромное количество текстов. И все они разные, в совершенно разные места идут, смысл их кинематографический. Так вот один из крупнейших авангардистов французских Луи Деллюк ввел понятие "фотогении" или "киногении". Ну, если примитивно формулировать: есть некие объекты, которые когда ты снимаешь - собственно этого достаточно. Они обладают каким-то волшебным свойством, которое он назвал "киногения". Если они в кадре есть – есть магия контакта со зрителем, изображение оживает: колеса, лестницы, вот дождь, например. Это все без всякого Луи Деллюка отлично чувствовал Ивенс. Но он еще про это все и знал: читал и так далее. Довольно полиязычный был человек такой. Эрудит.
Итак, вот этот авангардный период. Потом появилась картина Zuiderzeewerken, в котором переделал голландское слово, привязанное к ветру (я не большой специалист в голландском языке), там что-то южное заложено. Картина о том, как, Голландия, знаете, каналы, земля, надо выращивать горох, выращивать урожай. В общем, они до сих пор осушают огромное количество пространства, море, и дельту Мааса. И на этих искусственных полях что-то выращивают. И проекты гигантские в дельте Мааса происходили. И вот он их заснял. У него вообще одна из тем, которую он считал киногеничной, это был человеческий труд. Ну, вообще, это была очень распространенная тема. Не только благодаря коммунистическому отношению к герою основному как к пролетарию, то есть человека труда. Ну, видимо потому что, знаете, как говорят, что бесконечно можно смотреть на огонь и на чужую работу. Ну, вот кинематографисты это видимо быстрее всех поняли.
Чужая работа Ивенсом снималась активно. Здесь, с одной стороны, массы, то есть пролетарий, то, что его интересовало по взглядам, с другой стороны, чужая работа, изотерический какой-то труд по насыпанию камней в море, которое приводило к тому, что потом море куда-то уходило, и получалась земля. Несколько лет спустя он эту картину переделал, назвалась Nieuwe Gronden – "Новая земля". Там блестящая музыка Ханса Эйслера, немецкого композитора, и тоже коммунистических взглядов. Он вообще, часто тусовался с людьми, которые близки ему по взглядам, совершенно откровенно. Он, в общем, был человек мимикрирующий. Он работал в Голливуде и представлял себя как такого мелкого буржуа, уместного в Голливуде. Он работал там в ГДР и был, в общем, такой почти "штази" по виду. Он работал в Советском Союзе и в Китае.
В общем, это был человек, который был инструментом того, что он снимал. Для того, чтобы работать где-то, надо быть приспособленным. Вот Виталий Манский сейчас ездил в Северную Корею. Документалист в Северной Корее – в принципе хорошая тема. Почему он? Видимо в нем есть этот документальный природный элемент, который позволяет ему существовать. Хотя он заметил вакуум, в который он попал, в абсолютный, на 2 недели. Вот такой мимикрии, такой способности, во-первых, летать как Летучий Голландец по всему миру, а во-вторых, держать в себе вот этот вот элемент приспособления (это не конформизм, вовсе не конформизм). Он человек был парадоксальный, двойных взглядов, но у него был взгляд на мир. Вот, он ему позволял работать. И "Новая земля"…Он тусовался с этим Хансом Эйслером. Эйслер ему замечательную музыку написал. Фильм даже можно смотреть без музыки, можно слушать музыку без фильма. Это все осталось. Можно на мобильный телефон. Только минимум если две композиции из этого фильма поставить – это будет хорошо, это будет каждый раз (там одна грустная, одна веселая). И каждый раз будет приподнимать.
Дальше. Это "Новая земля". Но до "Новой земли" он сделал еще одну картину, которую он сделал по приглашению Пудовкина в Советском Союзе в 32 году. Он жил в России. Он был коммунист. Его пригласили – и он снял картину о постройке Магнитогорского комбината. Картина называется "Комсомол". Она с русскими титрами, "Межрабпомфильм" – была создана такая компания, первая продукционная российская компания в 26 году. Ею руководил немецкий коммунист. "Международная рабочая помощь" расшифровывается, значит. Идея была в том, что коммунистический интернационал стягивает отовсюду силы творческие и коммунистические и делает кино, чтоб было понятно, что язык коммунизма – это язык интернациональный. И передается через модный кинотренд в авангардном ключе. Там работали крупнейшие режиссеры мира, в том числе Ивенс. "Комсомол" или "Песнь о героях". Там, конечно, появляется цитата Сталина. Она появляется в контексте русских титров. В итоге из-за этого фильма он рассорился со сталинским режимом. Ему пришлось уехать. С 36 по 45 год он работал в Голливуде.
То есть вот если иметь ввиду, что он конформист – конформизма не было. Фильм был обвинен в том…При том, что это классика советского кино считалась, но, тем не менее, обвинения подбрасывались в том, что это отход от канонов социалистического реализма, доминирующего направления. Как вы помните, если кто-то помнит или знает, что основной элемент социалистического (а я помню хорошо) реализма – это вовсе не то, что главный герой – массы. Это там третий элемент. А основной и первый элемент – это руководящая роль партии. Так вот руководящая роль партии там как-то не очень прослеживалась. Там все та же была поэзия. Там было, может быть, политическое стихотворение на тему постройки Магнитогорского комбината рабским трудом каких-то тинэйджеров буквально там 14 лет и выше. Вот. Но это было стихотворение.
Он вообще чем-то похож на Евтушенко. Евтушенко, вот он, с одной стороны у него есть поэтические таланты - это очевидно, с другой стороны, он долгожитель, то есть это хорошо, дай Бог ему здоровья. И на каждый политический повод (вот сейчас события в Украине) он тут же выбрасывает стихотворение, не теряя своего поэтического таланта. Значит, при этом стихотворение политическое. Вот Ивенс – он тоже был таким. Он был репортер, метался, мгновенно делал слепок того, что он видел, он ловил Zeitgeist -– дух времени и отражал его на целлулоиде. Картина интересная. Там много всяких деталей, например, как во всякой хронике – человек подписывает вагон, который с углем отправляется куда-то в Магнитогорск из Кузбасса. Там еще он в Кузбассе снимался, потому что эта картина – это как бы элемент коммунистической радиопереклички, когда основные стройки индустриальные между собой по радио переговариваются, говорят: "Добавь угля Кузбасс!". Там это все есть, с анимацией сделано.
Он, вообще, часто использовал анимацию, смешивал жанр абсолютно. Значит, картина смотрится интересно и там есть момент: походит какая-то дама рабоче-крестьянская и пишет на вагоне по-русски. Русский язык мы понимаем, яти уже отменили. И то, как она это пишет - я даже не про почерк – мелом тяжело на вагоне писать, а степень грамотности, какое количество ошибок в одном слоге. Это гениально. Это зафиксировано камерой человеком, который по-русски не говорил. Тем не менее, это заснято. И там много-много таких деталей от лиц этих тинэйджеров. Считалось вообще так по итогам творчества Ивенса, что у него были широко открытые глаза (я сказал, что у него было 2 киноглаза, третий потом открылся тоже в конце жизни). Он считал, что у него были широко открытые глаза на что-то (там перечислялось что) и широко закрытые глаза на делитаризм и все, что с этим связано. Я с трудом себе представляю, вот реально понимая, что были там какие-то католические мыслители, которые были непреклонны весь 20 век, осуждали идеологию коммунистическую, хотя это тоже иудео-христианская идеология и что ее осуждать? Одна из ветвей.
Ну, так вот. Я не представляю, как можно работать в таком модном бюджетном сегменте как кинематограф, когда нужна дорогая тяжелая камера, пленка и финансирование. И вдруг там что, он должен был на Беломорканал поехать и подпольно снимать под камнем? Мне кажется, что это нереально было в то время в стране. И главное, других примеров нет. Поэтому, если мы от него ждем… Или сказать: "Фи, я не буду снимать!". А у него была другая природа. Он был хроникер, репортер, он хотел ловить ветер. И не поехать в Россию, там, где происходят все события, не заснять стихию энтузиазма, которая явно была! Явно была, там видно это. Видно не потому что в фильме, если Вертов манипулирует монтажом, совмещает несовместимое и потом перерастает в тоталитарное изображение его творчество. То здесь ничего такого нет. Здесь стихи. Здесь они легкие, они естественные. Короче говоря, можно смотреть.
Потом была "Новая земля". Потом замечательный фильм, который, можно сказать, в отличие даже от «Комсомола» главный его коммунистический пропагандистский фильм, дико интересный. Называется "Страдания Боринажа". Бельгийский угольный район. Рабочие беднеют. Их выселяют. Они объединяются. Они за коммунистов. Короткий фильм, похожий на авангардный документальный фильм, ранее снятый Луисом Бунюэлем, который называется Las Hurdes – "Земля без хлеба". Обеднение, обнищание, вымирание деревни испанской.
Что интересно? Опять же в кадр, если говорить про соцреализм, этот больше всего к соцреализму близок, хотя снят не на территории России. Сначала начинается хроникой Берлинской борьбы коммунистов, их митингов и парадов, то, как их уничтожает полиция. Буквально уничтожает, отстреливает – в кадре это видно, что полиция прицельно стреляет, как Беркут, значит, в Киеве. То же самое он показывает в Чикаго: бьют дубинками, стреляют с 20 метров в упор. Люди падают, их оттаскивают. Потом он говорит, что вот Бельгия. Но при этом в кадр попадает король Альберт, попадает Богоматерь, как элементы, с которыми работают эти рабочие, когда он снимает. И попадает совершенно фантастически, только ради этого кадра стоит смотреть этот фильм, портрет Карла Маркса. Это такой портрет, если вот в России вы вынесите его, даже вот лет 30 назад, то были бы уже серьезные проблемы с правоохранительными органами. А там рабочие на митинге несут большой масляными красками портрет, написанный в раме. Это очень смешно. И, тем не менее, вот эти 3 элемента в рабочем движении – каждому они оперируют.
Теперь если вспоминать Флаэрти, я сказал, что мы превратное представление о Флаэрти имеем, потому что в основной жанр, в котором он работал как автор, несмотря на то, что он нашел своего персонажа – и за это мы его ценим, человека, одиночку. Вот он имитировал, он делал исторические конструкции. Он, в общем, ничего не снял, все срежиссировал за 10 раз, проверил свет, план и так далее. Там есть такой Уильямс. Там есть такой эпизод, когда полиция приходит выселять рабочую семью нищую, которой нечем платить за квартиру, за дом (камера прям стоит внутри квартиры, полиция, все довольно близко снято) и там даже какой-то конфликт за стул – полицейский хочет вынести стул, семья не дает, там куда-то бежит в солидарность, "камерашафт", рабочие прибегают. Ну сделано интересней, чем у Флаэрти, потому что там есть настроение другое. Там нет настроения хроники, там есть вот этот трепет, волнение, про которое я говорил, называла Ханна Арендт. И вот этот вот волнение – самый важный элемент в хронике у человека по имени Йорис Ивенс.
Дальше был один из главных фильмов, который вошел в классику мирового кино, и даже если кто-то ничего не называет от Ивенса, но этот фильм всегда называется. Это «Испанская земля». Как вы понимаете, первый репортер не мог пропустить ни одной горячей точки, тем более репортер коммунистических взглядов. Он поехал на войну в Испанию. И не просто поехал. Он поехал, потому что он поддерживает борющуюся испанскую республику. Он снял картину – и вот это поэма. Это не стихотворение, это 50-минутная картина огромная. Текст написал Хемингуэй. Текст должен был читать Ларсен Уэлс в английской версии. Ларсен Уэлс начал читать, т.е. Ларсен Уэлс тоже это поддерживал. Потом что-то с Ларсеном Уэлсом не сложилось, и читали его по очереди в кадре (и сейчас это естественно осталось, и поправляли текст, который был заранее, как сценарий написан Хемингуэем – в кадре же поправляли, меняли, импровизировали Хемингуэй и другой писатель, такой более авангардного направления на тот момент Джон Дос Пассос). Во французской версии закадровый текст читал Жан Ренуар – знаменитый режиссер французский. Короче говоря, это был такой коллективный труд. И это замечательная картина. Она снята везде: в Испании, и там, где война, и там, где мир, и там, где грузят детей, чтобы отправить в советскую Россию, и там, где убивают в кадре, и там, где троцкисты, и там, где испанские франкисты. В общем, это настоящий репортаж, который превращен режиссером в поэму. И, по сути, это единственная его поэма, поскольку маленькие фильмы, я считаю, надо называть стихотворениями.
В 39 году он снимает картину "Четыреста миллионов". Опять горячая точка, 39 год, – оккупация Японией Китая. И вот он впервые встречается с Китаем. Это станет на очень долгие десятилетия его травмой психологической какой-то там, физической, кинематографической. Он потом растворится в Китае уже в конце 60-70 годов. Он уже оттуда не вылезал практически. Умер там. Этот фильм – это тоже китайский фильм. Но он мог себе позволить в 90 лет уйти из Европы и объездить весь мир. Короче говоря, этот фильм, вот если делить его фильмы на стихотворения и поэмы, при чем, имея в виду, что какие-то носили пропагандистский характер, то это тоже поэма. Она более традиционная по хронике. Там как раз больше всего из его фильмом вот этих ходящих масс, марширующих. Ну, просто потому что война. Японцы маршируют, китайцы отступают. Но то, что называется "я обвиняю" – там заложено, естественно. Он совершенно четко понимал, что это империалистическая агрессия, что катастрофы, что никакого счастья и процветания она не несет. Это было отмечено.
Я сказал, с 36 года он работал в Голливуде. Он работал с Льюисом Майлстоуном, он работал с Фрэнком Капрой, который был главным в Голливуде, и который как бы объединил все студии как центральный. Как у нас роман "Кармен", вот он объединил всех крупнейших, не только американских, но прежде всего американских документалистов мира на съемки пропагандистских, в том числе полнометражных прежде всего фильмов, антигитлеровских. И легко себя поставил наш человек-хамелеон Йорис Ивенс. Работал там много. Снимал фильмы с названиями "Знай своего врага – Япония", тире – Япония, то есть четко, чтоб ты не ошибся, или "Наш русский фронт". Вот такие названия. Но при этом продолжал свою методику – ездил везде, снимал в Канаде, в Австралии. То есть мир все равно для него был открыт, несмотря на вражеские бомбардировщики. То есть метод все равно вот этого Летучего Голландца оставался. Там приличное количество картин.
После войны поехал в Польшу – там снимал. Но в 47 снял опять же важную картину, коротенькую, коммунистическую абсолютно, 20-минутку "Говорит Индонезия". Дело в том, что если вы не знаете, а может быть, кто-то знает, Индонезия – огромная страна и государство рядом с Австралией, такой архипелаг гигантский. Это была голландская колония. Голландское правительство послало своего главного кинематографиста налаживать там производство кинематографическое. Он приехал, мгновенно сориентировался, понял, что обслуживать интересы империалистической державы в момент, когда поднимается послевоенная волна национально-освободительного движения. А с Индонезии, собственно, все начиналось. Просто было раньше всех. Ему неинтересно. Он тут же начал снимать картину, объединил вокруг себя группу кинематографистов (то есть вообще вот это вот группирование – тоже такая коммунистически – социалистическая идея. «Надо создать ячейку. Ячейка работает эффективнее, чем единица», - это помните, Маяковский, Синицын или что-то). Ну, вот он создал ячейку, тут же ему американцы ликвидировали американскую визу, все очень быстро происходило. Он создал ячейку, фильм начинается титром "По заказу портового профсоюза" австралийского. Фильм про то, что, оказывается, не знало это огромное количество индонезийцев живет в Австралии – приграничная страна. Они первые, поскольку они живут все-таки в Австралии – в свободной стране, чувствуют, что надо освобождаться от голландского злобного империализма, который качает нефть из Индонезии, все вывозит. И они выбирают эффективную методику – объединиться с солидарными представителями портовых моряков, значит, которые обслуживают корабли эти торговые (индийцы туда входят, некоторые австралийцы) и блокируют возможность отправки груза в Голландию. Вот вся эта коммунистическая такая идеологическая штука зафиксирована в 20-минутном фильме. Одного героя нет. Опять герои – это коллектив. Финально марширует некая такая импровизированная армия, довольно объемная. Свободно по Сиднею или по Брисбену, я не помню. И там австралийские военные, индийские моряки – все в военной форме, индонезийские моряки, которые служат в австралийской армии. Все это неожиданно, потому что мы ничего про это не знаем. Окончилось, как вы знаете, тем, что все это помогло – Индонезия была освобождена от голландского империализма.
Что потом интересно. Вот эти польские картины. Потом ни с того, ни с сего в 56 году самая неожиданная его деятельность с Жераром Филипом – звездой французского кино, с коммерческим актером, с первой, собственно говоря, вот такой звездой глобальной, снимает картину "Приключения Тиля Уленшпигеля". Абсолютный картон, декорации, высокобюджетный. Смотреть невозможно к произведению великого Шарля де Костера имеет минимальное отношение, хотя, в общем-то, снято по этому произведению. Там какие-то конкурсы на коньках, какой-то анахронизм в одежде. И там все тот же Жерар Филип, которого как не переодевай, в общем, остается Жераром Филиппом. При чем 2 режиссера у фильма: Жерар Филипп и Йорис Ивенс. Совершенно непонятный всплеск, значит.
Потом, что сказать, делает в Италии картину с братьями Тавиани "Италия – не бедная страна". И сразу входит в классику итальянского кино. Он один раз работал в Италии, он снимает Сицилийский эпизод – это альманах. Опять в своем таком вкусе ритмически-поэтическом. Все остается в классике итальянского кино. Удивительно то, что вот этот голландский кинематографист – он официально считается классикой советского кино, голландского кино, французского кино, немецкого кино и т.д., австралийского кино.
Потом происходит самое главное в жизни на мой вкус, поскольку те фильмы, которые он снимает в этот период – это высшее достижение его кинематографического языка, исключая вот этот параксизм, который мы увидим, который просто уникальное явление вне жанровое в истории кино. Значит, сначала он едет на Кубу, снимает картину на Род-Айленд – не может пропустить кубинскую революцию. Совершенно очевидно, что если бы сейчас он был жив, он бы был на майдане и как тот польский журналист спрашивал у беркута: "Ну, почему ты стреляешь, почему ты это делаешь?", стоя лицом к беркуту. Это очевидно было, потому что у него был этот трепет и волнение. Не потому что у него какие-то коммунистически пассионарные взгляды и он всегда за революцию. Нет. У него как бы есть волнение, ощущение времени. И он хочет это волнение отложить от своего плеча. После Кубы (а там уже эстетика немножко поменялась) - там появляется то, что принято называть в кинематографе «потоком сознания» и не только в кинематографе. Но то, что делает с языком Ивенс – отличается, потому что он делит поток зрения, то есть визуальный ряд, он делит с потоком текста. Тексты пишет сам уже.
Так текст, написанный верлибром – вот мы будем сегодня смотреть 57 года картину "Сена встречается с Парижем" или "Сена встречает Париж". Там вся игра в том, что Париж так же, как Москва, во французском языке женского рода, то есть "Пари ля бель" – это "Красавица Париж". И вот там обыгрывается: Сена встречается с Парижем, то ли две подружки встречаются. Ну, в общем, как-то так. Значит в чем важная деталь. Он опять работает в коллективе на этом фильме. Коллектив из 2 человек: один - Йорис Ивенс коммунистических взглядов и другой – Жак Превер – сюрреалист, замечательный французский поэт, мастер свободного стиха, то бишь такой формы тоже потока сознания, мастер верлибра и, если вы не знаете, он просто поет, он блестящий сценарист: и "Набережная туманов" и "Дети райка", и многие другие картины написаны Жаком Превером, сценаристом, включая тексты песен (он еще большой поэт-песенник). Ну вот это стихотворение Превера он превращает в фильм. У меня вот лично (я был десятки раз в Париже в разное время года с разными контекстами – иногда с туристическими, иногда с деловыми, иногда с интеллектуальными какими-то там разысканиями) – не сложились отношения мои личные. Мне кажется какой-то холодный неблизкий город. Но это тут же выключается, как только я вижу, как взаимодействует с Парижем на экране Ивенс. Вот то, как я вижу, чувствую Париж лично, вот это вот "Сена встречает Париж" – по-другому не могу – вот вбито в голову, – тут же начинаю растекаться киселем по стулу "О, Париж!". Хотя, в общем, Париж не люблю. Ну, вот он это удивительно чувствовал.
Значит, ну, это 57 год. Почему я об этом сказал? Значит, важная деталь. Превер был тоже коммунистических взглядов, он тоже входил в пропагандистскую группу "Октябрь" (это еще до группы "Медведкино" Криса Маркера и до группы Годара и так далее ). Значит, группа "Октябрь" пропагандистская. Значит, что они делают? В каких-нибудь клубах или на каких-нибудь пьянках выступали с пропагандистскими речами, рассказывали стихами, значит, и их от этого перло и они считали, что в этом какая-то миссия. Превер приезжал в Россию - его в 33 году пригласили тоже. Там побродил с коммунистической ячейкой, с которой он приехал французской. Все воспел в душе своей. А потом его перед отъездом попросили такую приветственную оду Сталину написать коллективную. А он, в общем, при том, что коммунист, культа личности не очень ценил и отказался. И коммунистическая ячейка вся, которая с ним приехала (такой у него авторитет был, у Превера) – она тоже отказалась эту историю подписывать. И все уехали, значит, неотбомбившись в пользу Сталина. Вот с таким человеком тусовался Йорис Ивенс. И с ним он сделал фильм. Почему я об этом заговорил, об этом фильме сейчас, перескочив несколько лет? Потому что этот фильм – это тоже, несмотря на то, что здесь вроде бы структурированные вещи – стихотворения, которые визуализированы, то есть это клип, но не на песню, а на стихотворение, но там поток сознания. Визуальный поток сознания, за который отвечает Ивенс и поток сознания в виде свободного стиха, за который отвечает Превер. Но поток сознания у него родился вот на Кубе.
И вот после вот этой "Народ и армия", где впервые проявился монтаж потока сознания, потому что поэтический монтаж 20-х годов, "Дождь", там "Этюды в движении" – это было немножко другое, отличалось. Поток сознания предполагает, что мысль – она движется, она интеншн имеет, стремление, она по какой-то траектории и не всегда понятной, парадоксальной. Там не визуальные рифмы, которые легко считываются и не надо интеллектуального какого-то усилия или контекста дополнительного. Здесь нужно чувствовать и понимать контекст. Он снимает 3 картины. Вот они, собственно, у меня любимые после этого. Одна картина называется "В Вальпараисо". "В Вальпараисо" – это заметка о путешествии. Здесь, во-первых, важнейшая происходит встреча с Крисом Маркером, с одной стороны, человеком не менее талантливым и не менее важным в неигровом кино как фигура (2,5 года назад он умер всего, тоже прожил огромную жизнь, хотя моложе гораздо на 30-40 лет Ивенса). Встречается с Маркером и не то, что один повлиял на другого или другой повлиял, ну, это все творчество, они делают тровиок.
Казалось бы картина "В Вальпараисо" – город в Чили (Чили, вы же чувствуете карту, куда переместился). Значит, загадочный город на пересечении пиратских путей, когда-то был красивейшая бухта курортная. Фантастический город, весь на берегу в горах, 42 холма. И знаменит он своими фуникулерами, рельсовыми фуникулерами, которые под углом, по-моему, 70 градусов поднимаются. Фантастически, практически вертикальные лифты такие. Передвигаться по городу очень сложно, но это главное, собственно, достоинство города, но при этом от фуникулеров до сих пор зависит все: вода – ее надо на фуникулере, доска для дома, все. С вертолета не принято – негде вертолету сесть, очень острые холмы. И при этом это бывший пиратский город, пересечение британских, испанских пиратов и куча всего. Вальпараисо – "райская долина". Ну, видимо, имеется в виду райская бухта все-таки, а не долина. Вот они снимают об этом такое стихотворение, но стихотворение, отличающееся от предыдущих фильмов (это уже цветной, яркий фильм, его невозможно найти в цвете, но он прям абсолютная картинка. Если вот сейчас показывать по телевизору и потом написать телефон туристической компании – трафик звонков будет огромный просто без сомнения). В общем, это замечательное место. Замечательно сыграно за счет визуального потока сознания, который сделали они вместе, поскольку Маркер был тоже визуалист, ну, и за счет – главное – текста Маркера. Потому что Маркер – тот человек, с подачи которого возникло то, что я считаю высшим достижением документалистов 20 века французских, кинематограф-эссе, где совмещается и поэтическая, и интеллектуальная (то, что потом в структуризме называлось «автоматическое письмо») и все это зарифмовалось в разных видах искусств.
Ну, и в кино тоже. В кино – с подачи Маркера, хотя, конечно, в 50 годы еще Александр Астрюк, режиссер, писал, что камера – это вечное перо. То есть он предполагал этот автоматизм письма, а Ивенс, собственно, и был человек-камера, который летал по планете как Летучий Голландец. Вот с этой картины и начинается такой самый творческий период, на мой вкус, самый яркий вне времени. Вот сейчас некоторые фильмы – рабочие, там полиция, приходят, стул, все понятно, но мы это смотрим, как хронику. Там больше исторически хроникальный элемент работает, и мы немножко отстраняемся, какой-то барьер. А здесь все - мы растворяемся. Это и видеоарт, и поэзия, и какая-то медитация. В общем, это работает до сих пор. Ну, естественно, если вы смотрите в хорошей копии.
Значит, после «Вальпараисо» вторая картина называется "Мистраль". Это, собственно, помимо "Летучего голландца", это режиссер "Мистраль", в том самом вольном виде, который резко меняет свое направление, который так известен в Голландии в дельте Мааса. Это, несмотря на то, что это короткий фильм 20-минутный, шикарно снятый. Это, во-первых, этюд в движении. Он про ветер. Нет никакой больше темы. Режиссер ловит ветер, снимает ветер. Он упивается просто камерой и возможностями кинематографического языка. Например, как он это делает. Как можно создать ветер в кадре? Ну, может реальный ветер дуть, листочки колышутся, платье колышется – там все это есть, естественно, во всех видах. Он это все фиксирует. Но можно же, когда картинка статична, просто очень резко повернуть камеру, да? И будет такой визуальный ветер. Он это делает – не вопрос. Или вот идет какой-то человек, похожий на Жака Тати – в шапочке и в плаще. Плащ развевается. И мы видим, что развивается и ветер. Ну а как еще можно понять, что ветер? А очень просто – сделать стоп-кадр. Он делает стоп-кадр, и вот этот искаженный иероглиф человеческого тела, такой подвержен дуновению ветра, что-то колышется – он замирает, мы смотрим – и, в общем, понятно, что это ветер. Больше того, это понятно, даже если до этого мы смотрели фильм и видели – ветер. Он вспоминает то, из чего он вышел - из семьи людей, торговавших фототехникой и фотоуслугами.
В общем, вот это вот игра с природой. Вообще, высшее достижение – когда режиссер помимо обобщения, помимо умения абстрагироваться от материалов, с которыми он работает, выходит на игру, на откровенную игру. Игровой кинематограф – игра. А он работал меж жанров – игровое и неигровое, все равно один и тот же корень "игровой". Так вот, игровой кинематограф становится игривым, когда он играет со своей природой, природой языка. Язык пишется теми, кто является режиссерами. Ивенс свой язык каждый раз придумывает. В "Мистрали" это сделано виртуозно простой техникой, но она такая говорящая. Это как будто вы приезжаете на Луну, например, высаживаетесь, подходит к вам лунянин. А луняне, если Лукьяна вспомнить,- люди загадочные. У Лукьяна, помнится, значит они передвигаются по Луне лежа, с эрегированным членом, а на член натянут парус. Вот так луняне передвигаются по Луне. То есть вот вы встречаете лунянина, который так передвигается по своей планете, и вы не знаете языка. И вдруг он начинает говорить, и несмотря на то, что язык вам неизвестен – вы его понимаете. Вот такое ощущение от фильма "Мистраль". Ну, и главная вещь – он, наконец, находит слово «мистраль» - «ветер», с которым он начинает работать. Он сам писал, что то, что я делаю в кинематографе – я ищу ветер. Можно сказать, что он искал ветер временный, можно сказать, что он искал ветер свободный, можно сказать, что он сам был ветром. Вот. Ну, Летучий же Голландец. Поэтому Летучий Голландец – так еще и ветер какой-то называется. Один из мистралей. Поэтому вот он нашел ту важную вещь, которую, во-первых, визуализировал, а во-вторых, название стоит на фильме "Мистраль", который снят в 65 году.
И вот в 66 он снимает фильм, который я больше всего люблю лично, всем рекомендую посмотреть. Он простой такой, с рубленным монтажом. Откуда взяты эти кадры и где они сняты – одному Богу известно. Но большая часть их снята в Роттердаме в месте, где он учился, в колледже, и часто приезжал. Он воспел мост, как шкаф в пьесе "Вишневый сад". Фильм называется "Роттердам-европорт". И помимо того, что это какое-то предсказание будущего Европы, которое, в общем-то, сбылось – такая вот объединенная Европа. Это лучший его фильм в эстетике фильма-эссе, в эстетике совмещения полифонического, то есть многоголосого, потока изображения, потока текста, то есть то, что мы называем потоком сознания, но здесь вот оно такое в полифоническом смысле раздвоено, потому что в отличие там от…Ну, классический фильм, где все, что можно сделать с потоком сознания – визуально сделано. Там сны, мечты, глюки, план – все это показано. Так вот там этой полифонии нет. Она есть благодаря огромному количеству героев при одновременности происходящего. Но раздвоение текста и изображения нет. Полифонии в этом нет. Многоголосья в этом нет. Здесь это есть – это цветная картина. А в "Мистрале" скажу еще один формальный элемент, который он легко использует, не стесняясь, ни на какие каноны не глядя: 10 минут это черно-белый фильм, на 11-й он вдруг цветной становится. И там и по тексту это, и по смыслу оправдывает. У вас включилось и у него включилось.
Ну, вот "Роттердам-европорт". Не могу передать. Текст сложный. Какие-то обрывки мыслей. Они летают, как чайки по ветру, иногда сталкиваются лбами. Большая часть видеоматериала, ну, визуального материала в Роттердаме – это гигантский порт. Но что-то снято еще где-то. Какие-то кадры из старых фильмов Ивенса. И, собственно говоря, посмотрим 2 фильма, потом я еще чуть-чуть расскажу о его деятельности.
Ну вот. Значит, прошу за это прощение. 2 картины. Про них я вам расскажу потом. «Сена встречает Париж» я по глупости и простодушию смотрю довольно регулярно и каждый раз с удовольствием. Поэтому еще раз посмотрю. А эту картину я буду смотреть второй раз в жизни. В принципе, 2 раза ее смотреть - это, по-моему, too much. Но вот один раз ее увидеть...Тяжело рассказывать, видя ее 1 раз давно (я видел ее лет 5 назад первый и последний раз). Но здесь ее рассказывать не надо, поскольку это уникальное явление и в творчестве Ивенса, ну, и вообще, в кино таких картин несколько. Потом тогда я немножко расскажу про остаток жизни Ивенса (он был значительный) и собственно все. Между картинами перерыва не будет, поэтому если вам что-то надо сделать – хорошая, наверное, возможность сейчас.
Еще важную скажу вещь. Про парадокс вот этот вот надо сказать. Значит, основная проблема кинематографа, как языка, как языка кино, с которой он столкнулся в 20 веке в какой-то момент – это как раковая опухоль, пожирающая кинематограф – то, что мы привязываем к англо-саксонской традиции, к традиции индустрии, к Голливуду – это линейный нарратив, то есть последовательное повествование. Последовательное повествование – это то, что кинематограф любит, сводит его к конвейеру, сводит его к стереотипам, сводит его к тому, что вы сразу считываете и отключаете свой интерес. Поэтому основная борьба, если можно кинематограф представить неким фронтом, в котором идет борьба языковая за победу Украинского или русского языка в Крыму, то это борьба между линейным нарративом (последовательным повествованием) и его разрушением.
Вот Ивенс – для него этой проблемы не существовало изначально. Он линейный нарратив вообще не имел в виду. То есть видел он его в гробу в белых тапочках, линейный нарратив. У него его не было, он с ним не работал, ничего про него не знал. И вообще, стихи с линейным нарративом, ну, я не знаю, Багрицкий, наверное, мерку поднял. В общем, это, наверное, плохо. При том, что это стихотворение Багрицкого – хорошее. Вот у него такой проблемы не было. И если говорить на чьем фронте воевал он, то это был самый естественный сторонник разрушения линейного нарратива. Если вам интересно понять, как можно разрушить совсем линейный нарратив. Ну, есть несколько способов – каждый борется по-своему. Один из способов вы можете сейчас на экранах наблюдать, в том числе в этом зале – эта картина называется "Трудно быть Богом". Радикализируя свою эстетику Герман, от "Хрусталев, машину!", от абсолютного своего шедевра, который тоже не имел отношение к линейному нарративу, но он там был, он довел свою эстетику до высшей точки. При том, что я считаю картину неудачной, не получившейся, и, видимо, Герман чувствовал, что картина не удалась, поэтому он все не мог ее закончить. И умер, так и не закончив. Ну, по сути, это картина Средневековья и снята на средневековом языке. Средневекового языка Герман не знал.
Он должен был его выдумать. Как он мог его выдумать? Он догадался. Посмотрел картины там Босха и понял, как это можно сделать, разрушив линейный нарратив до основания. Как он это сделал? Он очень сделал близким способом к Ивенсу. Я говорил, что полифония Ивенса, многоголосье, создавалось за счет того, что разделение шло между визуальным и вербальным, между текстом и изображением. При том, что они были связаны, они создавали многоголосье, полифонию. То же самое есть у Германа. Он разрушает 2 нарратива: он разрушает устный текстовой нарратив, тем более, мы все знаем, что это по-Стругацким, можно быть готовым, знать сюжетную линию, фразу понимать, что "подошли войска ордена" – понимать, что там ключевой какой-то момент, что там сейчас что-то произойдет. Вот он разрушает линейный нарратив текстовой. Каким образом? Ну, во-первых, там все время бормочут. Говорили, что это Герман со звуком что-то не закончил. Все он закончил со звуком. Он не хотел, чтобы слышали. Все ключевые моменты, Ярмольника, который все время "бу-бу-бу-бу" – кто знает, может услышать. Но это не важно для Германа. Он это разрушает. Он не хочет, чтоб это слышали. Там постоянно идет какая-то болтовня – ее можно не слушать.
И то же самое с визуальностью. Что там происходит? В кадре все время, за исключение двух эпизодов, Ермольник и он все время в движении. Все время в движении и бормотании. Бормотуху вот эту вот, мамблинг вот этот вот мы не понимаем в половине случаев, а то и больше. А по движениям – ну что он там: куда-то пошел, что-то выпил, съел, снял рубашку, одел рубашку, одел шлем, кого-то ударил, кому-то нос повернул, пукнул, крякнул – вот весь набор. И это все по кругу бесконечно повторяется. То есть что он разрушает? Разрушает визуальный нарратив за счет этого. Чтоб вы не могли понять истории. Это фильм, который должен работать по-другому. Он в итоге как бы как произведение не сложился, несмотря на то, что как бы пишут… Да, это большой фильм. Радикализация эстетики от «Хрусталёв, машину!» до «Трудно быть Богом» ради кальки. Человек за 17 лет прошел этот путь – это трансформация себя. Как можно было вообще в этом выжить. При том, что этот режиссер воспитывался в традиции он как кинематографист после войны развивался и эта традиция нарратива, нашего нарратива. Вот. Это очень важный момент, который я хотел сказать.
Ч2. Я прошу прощения, видимо какая-то ошибка. Мы посмотрели второй фильм с скорированном изображении. Сжатом. Оно в 2 раза больше. Это неправильный формат. Cкошетированное. И первое точно такое же.
Ч3. Дело в том, что это копия, которую прислала нам собственно миссис Ивенс, которую вы можете видеть в фильме. Это такая рыжеволосая дама – это жена Йориса Ивенса, та, которая официальная.
Ч2. Нет, она растягивается…..
Ч3. Дело в том, что если ее растягивать – искорёжится изображение, поэтому показано в том формате, на который нам предоставил правообладатель.
- Ну, в любом случае, мне кажется, фильм от этого никуда не теряется. Я думаю, вы больше не видели никогда документальные сказки. Он, естественно, отрепетировал здесь собственную смерть, как вы видели. Он умер на монтаже. Марсерь Лоридан, которая стоит вторым режиссером здесь вот рыжеволосая, там ее ветер сносит как будто – она с начала 60-х его супруга и муза, и сотрудник. Она работала на всех его фильмах. Вот с этого момента о Вьетнаме картина. Смотрится на одном дыхании. С одной стороны, конечно, это этнографическое путешествие. С другой стороны, вы видели, какой глаз, как он выбирает фактуру. В-третьих, конечно отпечаток тела режиссера, и если он что-то здесь документирует, то конечно не эстетику Китая или китайскую оперу и всякие достопримечательности потрясающие, а документирует, конечно, состояние собственной души, то самое волнение, о котором говорила Ханна Арендт, стихи, которые его окружали. Вот, значит, хочу быстро договорить.
Значит, вы видите, что здесь совершенно прижанровая картина, все намешано, коктейль с колбасой с очистками ореха. Ему это хотелось, он был свободен это делать. Он экспериментировал всегда. Он снимал в любых абсолютно жанрах. У него есть анимация, использованная в документальных фильмах. У него есть замечательная картина начала 30 годов, индустриальный фильм был такой жанровый, индустриальный фильм называется "Радио Филипс". Крупнейшая голландская компания заказала ему снять фильм. Ну, то есть индустриальный фильм, который неожиданно блестяще снят. Там фактура стеклодувов, которые вручную раздувают эти трубки. Филипс тогда не столько радио производило, основное производство тогда было лампочки электрические. Ну, собственно, и сейчас продолжают тоже. Ну, вот он показывает как жабы вот эти раздувающие щеки стеклодувов, показывает как работает техника и в конце вдруг заканчивается неожиданно фильм, индустриальный хорошо сделанный фильм, чем-то в стиле анимации Нормана Макларена, когда эти радиотарелки, которые производит Филипс вдруг начинают как-то летать как эти 9 солнц в фильме. Тут очень много всяких мелких таких аллюзий к тому, что он делал. Фильм про любовь, вот когда он снял свой первый фильм про любовь – вообще без представления что это за фильм, где его можно найти. Нету нигде ни в каком виде. Не знаю, наверное, где-то у голландцев можно отрыть в архивах. Но по сути последние 40 лет этот фильм кроме как вот этот кусочек, вставленный взамен в свой собственный последний фильм – нигде увидеть нельзя. Судя по всему даже это даже игровой фильм. В общем, раскопки археологии. Не зря он здесь говорит про археологию вполне с иронией.
Он затонул в Китае. Азиатский период начался давно. Вот он здесь показывал кусочек фильма 38-39 года "Четыреста миллионов". Это первое его столкновение с Китаем, когда он снимал захват японцами китайской территории. Вы видели, что он с камерой. С тяжелой камерой. А он далеко не всегда был оператором. Только в 11 из 48 картин был оператором. Первый фильм он снимал сам. Потом трио уже. Там парочка операторов обычно. Он режиссер был, хотя в сценарии всегда принимал участие. Хотя в первых фильмах никаких сценариев не было, полная импровизация. Там первые 10 фильмов без сценария сделаны. Даже элементарного не было никакого синопсиса предварительного. Он просто начинал снимать, а потом начинал монтировать. Вот он в 38-39 году столкнулся с Китаем. Как-то задел его Китай. Потом в 50-е годы он вернулся с картиной "Война шестиста миллионов". Название рифмуется с "Четыреста миллионов". И когда началась Вьетнамская война, он переместился в Азию. Естественно, это была самая горячая точка в конце 60-х – начале 70-х. Он сначала поучаствовал в глобальном проекте далеко от Вьетнама вместе с Годаром, вместе с Уильямом Кляйном, вместе с Жаном Рушем, вместе с Аньес Варда, с кучей еще – там целая коллекция замечательных документалистов, который каждый высказался в разных жанрах - какие-то новеллы цветные, какие-то черно-белые, - о том, что они думают. А все они здорово были левой ориентации. Что они думают о ситуации с войной во Вьетнаме.
Ему показалось этого недостаточно, он решил высказаться больше и снял самую длинную свою картину, которая называется "Семнадцатая параллель" – почти двухчасовая черно-белая картина, тоже вместе с Марсель Лоридан. Которая из себя представляет зарисовку деревеньки. Семнадцатая параллель – это та параллель, та линия, которая разделяла по Женевскому соглашению бывший Индокитай (сейчас он называется Вьетнам) на северный (социалистический), на южный – нехороший (капиталистический). То есть это передовая линия фронта. Не просто. Он залезает в деревню, которая ближе всего находится к линии фронта. Наблюдает жизнь этой деревни повседневную. Наблюдает, как ее днем американцы сносят бомбами полностью просто "под ноль", огромной бомбой в 15 бросает – 20 метров в диаметре воронка. Как только нет с утра рано утром в 4 утра американцев – вылезают вьетнамцы, которые прорыли огромные туннели, жилища, госпитали, типографии под землей. А живут они рядом с городом Хокса, который американцы снесли полностью, потеряв на этом 76 самолетов. Ну, естественно, техника в них стреляла наша, советская. Там вся она в кадре присутствует. Но организация вьетнамцев, характер их вот этой подземной жизни, которая вся под землей тоже заснята подробно – она абсолютно вьетнамская.
Она абсолютно им свойственна.
Так вот, они вылезают и восстанавливают то, что требуется для жизни. И главное, что категорически заравнивают все воронки. Одна очень большая какая-то, по-моему, 250 тонн бомба взорвалась – они говорят: "А давайте из этого сделаем рыбный пруд" и оставляют это под пруд. А все остальное разравнивают и сажают рис. И вот этот бесконечный процесс в 2-часовом фильме. Естественно как бы с пафосом – не обвиняю, потому что это антивоенный фильм. То здесь, то там стреляют пушки в кадре. Естественно в финале совершенно фантастический эпизод – не берусь сказать на 100% документальный или немножко по следам прошедших дождей срежиссированный – как они сбивают американский самолет и берут в плен летчика. И там как бы с ним коммуницируют коллективно. Ну, высокий такой красивый американский летчик. Я подозреваю, что это все-таки такая реконструкция событий с участием того же летчика и тех же сбивших его вьетнамцев. И после этого он полностью тонет в Китае. Маисский Китай его привлекает и каким-то образом какой-то переклин у него в голове происходит, совмещаются все контексты (ну он уже пожилой человек довольно, 70-е годы). Ну, вот он тонет в этом Китае и делает там очень много картин. Вот с Марсель Лоритан они там живут. Он делает картину "Казаки". Шанхай видели? Вот эта верхняя панорама города освещенная – это Шанхай. Сейчас он выглядит еще более футуристично. Он снимает в Шанхае очень много. Встречает там вот эту диаспору казацкую, снимает фильм "Казаки". Или там встречает каких-то уйгуров где-то и снимает кинематографический фильм про уйгуров в своем таком поэтическом ключе. Эстетика меняется.
Возраст режиссера накладывает на эстетику, естественно, отпечаток. Эстетика меняется. Она становится больше привязана к тому, что называется «эффект чистого времени», когда то, что он снимает, длится столько, сколько это длится в реальной жизни. И главное, что он сделал там – это бесконечной длины (там 740 минут) 11-часовая картина как Ю Конг передвинул горы. Ю Конг – это некий мифологический персонаж, который цитирует Мау. Это такой был сериал для ЦДФ, он сделан из этого фильма 10-часового. Изначально появляется цитата из Мау, с мифа про этого Ю Конга, которому горы мешают, но он предсказал, что вот если родится некая традиция недоверия этим горам, которые мешают выходу из дома, и будет поддерживаться – горы исчезнут. Ну и все поколения детей много сотен и тысяч лет за этим Ю Конгом эту традицию поддерживали и горы в какой-то момент рассосались.
В общем, это очень нравилось ему. Он снимает в эстетике чистого временем. Потом разбивает иногда этот сериал на маленькие фильмы, которые немножко обрабатывает и отдельно показывает там, в Венеции, в Каннах получает приз за картину. Они называются очень просто, например, "Шанхай. Аптека №3" или там "Пекин. Лицей №31". Фильм еще известен под названием "История мяча". Футбольного мяча имеется в виду. Или в английском названии "Инцидент с мячом". Там что-то случилось до прихода Ивенса с мячом в некоем лицее – потом идет обсуждение. В принципе, это то, что сейчас… я же говорил, что это режиссер, который стал классиком многих кинематографий мира официально. Для китайской кинематографии это человек, который неигровое кино в Китае просто своим присутствием создал. И вот если классика китайской кинематографии, то, что сейчас режиссеры пятого поколения китайского Жих Жанкэ, например, или Ван Бинь делают – это делается в эстетике человека по имени Йорис Ивенс, доведенной до абсурда, потому что у Ван Биня фильмы, даже небольшие фильмы, длятся 380 минут (ред: фигня какая-то: очень тяжело гуглятся китайские фамилии, сецнарист Ван Бинь есть, но у него фильмы в районе 100 минут, ни одного длинного не нашел). Вот такая история. Не хочу больше ничего рассказывать. Умер на монтаже. Святой человек. Марсель Лоридан младше его на 30 лет. Она удивительным образом ровесница его первого профессионального фильма – в 28-м году родилась. Жива-здорова. Снималась с ним. Сняла когда-то игровую картину одну. Все время о нем рассказывает.
Об Ивенсе довольно прилично написано. У нас на русском языке существует только одна книжка Сергея Дробышева "Кинодокументалист Йорис Ивенс". Найти ее можно только в библиотеках. Скачать нельзя. Ну, она с таким, конечно, идеологическим уклоном.
Есть очень хорошая биография Ханса Шульца Амстердамским университетом изданная, называется тоже симптоматично "Живя опасно". Вот Джек жил опасно. Помните, в одном старом советском фильме Моряцкая говорила: "Вот я баба мужем бита…" и так далее. Вот он также изначально на нескольких войнах не застрелен. А войны он посетил все.
И еще в дополнение хочу сказать. Сейчас на Берлинале я был и купил книгу. Есть такой выдающийся в большей степени концептуалист-авангардист, но при этом документалист Джеймс Беннинг. Вот эта книжечка. Это Венский киномузей, Австрийский киномузей в Вене издаёт эту замечательную серию, даже можно покупать. Правда, они все на английском, к сожалению. Это книга о Беннинге. Здесь есть пару текстов Беннинга и в основном это сборник статей с картинками – это особенно приятно. И Беннинг здесь, берутся его цитаты. Я еще только один текст прочитал. Я из уважения к цитате прочитаю по-английски – сразу прошу прощения за мой английский, а потом это переведу. (Читает на английском)(1:23:54 – 1:24:13). Джеймс Беннинг. Значит, он пишет о том, что для своей работы документалиста он видит всего две причины: одну причину – желание побывать в местах, где он никогда не был и никогда не побывал из-за этого и вторая причина – поставить себя в некий более широкий контекст на каком-то более объемном фоне. Причины эгоистические, но результативные. Вот, собственно говоря, как ни странно, при том, что масштаб вот этого эгоистического желания у Йориса Ивенса трансформировался в какие-то более изощренные формы – это можно отнести и к нему. Не зря его называли Летучим Голландцем.
А теперь если у вас есть вопросы, замечания, дополнения, критика – в общем, можно обсудить. Я даже готов сесть туда.
Напомните, пожалуйста, в каком году он умер?
- Он родился в 98-м, а умер в 89-м. Парадоксальным образом, будучи коммунистом и даже маоистом, как и Годар когда-то, он умер в год, когда…очень драматично на самом деле умер, потому что за несколько месяцев до того, как он умер, точнее даже меньше, чем за месяц…да, меньше, чем за месяц до того, как он умер, а он в Китае умер, он наблюдал события на площади Тяньаньмэнь. То есть разложение коммунистической системы, которая в Китае не разложилась, но все остальное уже начало разлагаться. И 89-м год стал годом Бархатной революций европейских. В общем, он в своей жизни к этому подошел и умер. Ему уже не надо было это смотреть, потому что, живя двадцатым веком, не переболеть одной из глобальных болезней 20 века на самом человеческом уровне он не мог. Так что в 89-м. Марсель Лоридан подбирается к этому возрасту.
Дети были у них?
- Нет, у них не было детей. У него было очень много женщин. Возможно, у него и есть дети. Но я не думаю, что он об этом знал. Официально нету.
Я пропустила. Марсель Лоридан – она была кем?
- Марсель Лоридан – она появилась в начале 60-х. Она работала на фильме там эксклюзивным продюсером. Ну, в общем, какими-то разными видами деятельности в съемочной группе занималась. И стала его музой, подругой, женой.
Ага. Значит, она не была оператором. А кто тогда был оператором?
- Операторы были разные. Я говорил, он снял 11…
Здесь очень важная история…
- Здесь?
Да.
- Здесь 2 французских оператора.
А в первом фильме? Эта операторская идея того, как держится камера? Она принадлежит режиссеру или оператор просто…
- Этот человек – не оператор. Этот человек – режиссер. Но режиссер – это тот человек, который может по 8 точкам в течение 10 минут расставить операторов и снять "Терракотовую армию", да. Еще одни нюанс. "Терракотовая армия", она помимо того, что она в натуральную величину, она каждое лицо каждого воина – оно не повторяется, они все отличаются друг от друга. Парадокс этой армии - что там тысячи терракотовых солдат, а одинаковых лиц нету.
Ну ему так и не разрешили, да? Как я поняла.
- Ну он отказался. Он был очень неплохой продюсер. Он мог развести разные, в том числе политические, режимы на солидные деньги, в том числе на миллионные бюджеты. Он мог организовать вот такие путешествия. Поэтому он просто не стал это делать. Ну, это по сюжету важно. Это же фильм импровизационный. Он сымпровизировал, сыграл с природой кино, с самой иронией, с иронией ноты кинематографа и тем, как он делается. Это фильм, который в музее кино Наума Клеймана приходят: "Кино! Кино". Вот кино, кино. Когда Ивенс в кадре – это уже кино. Так что он не оператор. Он снял 11 фильмов как оператор из 48. Первые фильмы он снимал сам. Сам бегал с камерой, сам садился в трамвай, снимая дождь и капельки дождя. И операторов расставлял. Все это понимал. Но у него никогда не было глобальных или великих операторов. Они ему были не нужны. У него было 3 киноглаза.
И этого достаточно было?
- Да, достаточно. Есть просто режиссеры, которым нужны большие операторы. Там Вендерс без Анри Алекан просто не существует в своих главных фильмах. Если бы Анри Алекан не был оператором у Вендерс, то эстетика его лучших фильмов просто бы не состоялась. Вот, а здесь – здесь главное присутствие за камерой для наблюдения вот этого человека. Ну, че – все? Нет этих каких-то?
Можно про его встречу с Крисом Маркером, вообще про их взаимоотношения?
- Ну они сделали всего 2 картины вместе. Вот "Вальпараисо" и "Роттердам-европорт". Они работали вместе, потому что у них был общий продюсер Анатолий Даман. Это такой замечательный сумасшедший продюсер-одиночка, который не так давно умер. У него в квартире умер Андрей Драковский. Это у него была такая компания "Аргос-фильм". Вот они работали с "Аргос-фильмом" в самый золотой период 60 годов вместе. Но Маркер – во-первых, это было сотворчество и они повлияли друг на друга. Кинематограф-эссе больше привязан к Маркеру и к его группе. Но Маркер был величина тоже. Он сам снимал тоже. Но он заразился тем же мультикультураризмом. Он был, может быть, не Летучий Голландец, а Летучий Француз по полной программе. У нас есть даже один из членов экспертного совета медиатеки, которая планируется открыться здесь, Николай Анатольевич Изволов, который один из главных героев фильмов Криса Маркера "Могила Александра, или Последний большевик". Вот. Маркер – я хотел говорить о Маркере и я его люблю очень, и видел вживую и что-то такое. Но мы поделились с Мишей Ратгаузом, режиссером, и выбор был между Руж и Маркером. Маркер остался. Жан Руж тоже большой кусок пирога.
Ну вот мне интересно, чем конкретно…
- Ну, он написал сценарий к двум картинам, он участвовал в каждом кадре «Вальпараисо» и «Роттердам-европорт», который, собственно говоря, там как в капле в маленьком фильме. О творчестве. Дело в том, что кино родилось во Франции, и мировое кино родилось во Франции. Многие режиссеры родились во Франции. Париж, который встречает Сену, притягателен, особенно в 20 годы, когда там все происходило, формировалось, все произрастало. Вы видите, что абсолютно рассосался Ивенс. Он говорит по-французски, а не по-голландски, потому что он голландец. Он был когда-то обожжен Парижем. Он жил в Париже. Многие жили в Париже. Уильям Кляйн, американский режиссер, жил в Париже. Его золотой период – это тоже Париж. Не зря он в команде вот этих французских режиссеров снимает далеко от Вьетнама. Вдали от Вьетнама. То есть это просто еще одно солнце из девяти, которые светят в французском кино.
Можно еще вопрос? Не вопрос даже. Мне кажется, какая-то здесь эстетика модная нашего документального кино. Дзига Вертов, допустим, да. И то, что они делали. И мне кажется, какие-то вещи очень пересекаются.
- Здесь, в этом фильме? В этом фильме ее точно, слава Богу, нет. Дзига Вертов – это такая вещь, которая отовсюду торчит у нас. Я стараюсь выковырять ее иногда. Здесь вот, слава Богу, ее нет.
Нет, в той, в первой картине.
- В первой картине – там тоже уже Дзиги Вертова нет.
А "Монтаж аттракционов"…?
- "Монтаж аттракционов" – это вещь как бы придуманная, но используемая везде, тотально просто, потому что она была до того, как ее сформулировали.
Ну, можно сказать, что кино он видел.
- Ну, я же сказал. Он был инициирован к режиссуре всерьёз, к профессиональным фильмам Пудовкина в 26 году. Он видел уже и картины Ветрова, он работал в России несколько лет, и всех знал, и всех видел. Фильмов тогда было не так много. Вот. Он просто не сработался, поскольку он был личность. Он был одиночка. Он умел встраиваться в коллектив. Он любил тусовки, коммунистическая подоплека предполагала эти тусовки, единение, товарищества. Но он был не статный. И, слава Богу, он не статный был в эстетике, потому что если мы все время говорили про Дзигу Вертова применительно к Ивенсу – мы бы просто не говорили об Ивенсе. Ивенс был бы выжит. Дзига Вертов – это важный момент русского авангарда, который длился с 907 по 34 год как период исторический. Он сам в своем творчестве перерос от авангарда к тоталитарному искусству и собственно, рассосался, все. Ивенс настолько больше Дзиги Вертова, что при всем моем уважении, при всей выстроенной иерархии поклонения Дзиги Вертова Ивенс – это Ивенс.
Почему у него псевдоним Йорис?
- Ну, я не знаю голландских этих штук. Нигде не осталось. Он нигде не объяснял. Йорис – ну, неплохо. Ну 3 имени, когда ему отец поменял, как буржуазной пафосности нагрузил – Жорж-Анри-Антон – это too much. Он менеджер был еще. Очень хороший менеджер. Он отлично справлялся с любыми ситуациями. И ситуация выбора творческого псевдонима – это тоже. Иногда выберешь там Колбасюк – и будешь Колбасюком всю жизнь. Он выбрал Йорис – и стал Йорисом. Колбасюком быть не хотел.
Еще один вопрос. Вы говорили про то, что он создавал фильмы в Индонезии и создавал их как оппозиционные и с голландским режимом, но в последствии все же обернулось так, что…
- Королева Биатрикс вручила ему орден. Он все время был и там, и здесь. Он не был двустволкой, но просто, если вручают орден за заслуги, которые ты заслужил – можно и взять. Королева Биатрикс не убивала еврейских детей и т.д. В Голландии была самая сильная система сопротивления в Европе. Я перебил, не?
Я не договорил. Там просто все завершилось тем, что коммунистический режим и всех коммунистов убивали? Нет?
- Ну, я же вам сказал, что он снял один фильм, работая в Австралии. Его не пускали в Индонезию. Его голландское правительство выдвинуло, чтобы он сделал какие-то полезные вещи. Он нашел точку, откуда он может делать гораздо более полезные вещи. И на этом как бы коммуникация с голландским правительством и с американским заодно тоже закончилось. Я говорил, так же, как он не мог снять фильм из-под камня как строили Беломорско-Балтийский канал, как подпольный, значит, репортер, так же он не мог работать на той территории, где его не ждали. Он все-таки приезжал туда, где была опасная среда, да, живя опасно, но среда, которая его ждала. В Испании на республиканской территории снимать, когда вокруг твои друзья, Хемингуэй и другие – это хорошо. А приехать туда, куда его не пускали – он не мог просто тогда. Вообще, человек, который снял фильм "Дождь", если вы его увидите (его можно и скачать) – он не думал о том, что когда-то появятся цифровые камеры, и что если бьют кого-то – раз, снял тут же. Он делал с той камерой, которая у него была, сразу вот так вот. И это поразительно. Это не то, что не продумывал. Продумывал. Но наличие 2 киноглазов давало возможность реагировать быстро. Все? Спасибо.








 Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы
Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы