Сетевое издание m24.ru продолжает серию интервью с переводчиками. В этот раз собеседником издания стал Сергей Таск – переводчик, писатель и драматург. Он переводил таких авторов как Пол Остер, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Стивен Кинг, Трумен Капоте, Джордж Оруэлл и других. В интервью m24 Сергей Эмильевич рассказал о советах Риты Райт-Ковалевой, новых переводах классической литературы и о том, как на него повлияла жизнь в США.
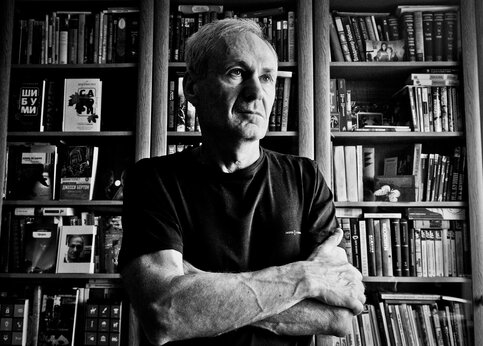
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
– Сергей Эмильевич, как вы начали переводить, с чего это началось?
– Я учился на английском отделении филфака МГУ. Естественно, как все в этом возрасте, писал какие-то стишки. Поскольку все мы очень много читали зарубежной литературы, в том числе англоязычной, то возник интерес к английской и американской поэзии. Сначала я, помнится, влюбился в Джона Китса. Это было настоящее погружение в его поэзию. Он же очень рано умер, в 26 лет, и при внешней легкости и романтической приподнятости было ощущение какого-то нарастающего трагизма. Меня это сильно захватило. Конечно, были переводы. Маршак, например, переводил, еще кто-то. Но я в чужие переводы не погружался, а сразу начал переводить Китса.
Тогда же меня увлек ирландский поэт Уильям Йейтс. Зарубежную литературу в то время читал у нас Роман Самарин, к нему каким-то образом попали мои переводы. Он заинтересовался, стал советы давать: почитайте то, почитайте это. Потом устроил читку моих переводов для студентов-сокурсников. А на втором курсе, тоже по его совету, я написал курсовую "Сравнительное изучение переводов 66-го сонета Шекспира". Я думаю, что это была отправная точка.
– Почему?
– Сначала я просто сравнивал переводы. Румер, Модест Чайковский, Гербель и вообще старые переводчики – все это было довольно слабо сделано. А когда смотришь переводы Пастернака и Маршака, то с профессионализмом там все понятно, на высоком уровне. Но вдруг обнаружились какие-то вещи, которые меня задели.
Например, в оригинале "Tired with all these" – в первой и последней строке. "Как я устал". Это надо повторить и в переводе, естественно. Еще анафорическое "And" десять раз повторяется, тоже нужно как-то соблюсти. Пастернак это сохранил, а у Маршака нет повторов. У Пастернака это звучит так: "Измучась всем, я умереть хочу", и в конце: "Измучась всем, не стал бы жить и дня…".
У Маршака задело то, что у него в финальной строке: "Но как тебя покинуть, милый друг!" Милый друг – это такое романтическое клише. Шекспировские сонеты и 66-й в том числе – очень жесткий текст, иногда косноязычный, но такой мощный энергетик. Это все-таки XVI век, а не XIX – какой тут романтизм? У Маршака, который, в принципе, очень красиво переводил все сонеты, есть этот флер, налет красивой романтики. Я сразу понял, что это не подходит. А у Пастернака мне не хватало… Там тоска, но я не чувствовал какой-то болезненной мощи. Тогда я понял, что должен сделать сам. Причем это не было соперничеством, я не пытался что-то доказать себе или кому-то. Я просто хотел рассказать, как я это чувствую. И я сделал первый вариант, потом к этому возвращался, иногда через несколько лет, что-то переделывал.
Кстати, еще одно замечание о том, чего нет ни у Пастернака, ни у Маршака. Там у Шекспира есть строчка: "And art made tongue-tied by authority". То есть: "Искусство, которому язык связала власть". Слово "власть" они оба опустили и нетрудно догадаться почему. Такая самоцензура. Гораздо позже, уже в перестроечные времена, появилась масса новых переводов, и я увидел у Бориса Кушнера это слово. В общем, получилось у меня вот так:
"Как я устал… Уж лучше умереть,
Чем видеть гордость в нищенском отрепье,
И веру, чей удел – хула и плеть,
И перед злом трусливым раболепье,
И дружбу, что бежит, боясь грозы,
И торжество извечное порока,
И честь девичью в уличной грязи,
И красоту, гонимую жестоко,
И простоту, в которой видят блажь,
И искренность, чей рот заткнули власти,
И серости несносный патронаж,
И алчность, рвущую весь мир на части.
Как я устал… Все бросить был бы рад,
Но стало бы тебе трудней стократ".
Это, я думаю, стало началом. Я тогда понял, что у меня, наверное, есть какие-то свои ресурсы для того, чтобы попытаться, идя вслед за автором, по-своему сказать то, что сказал он. Конечно, это всегда версия, что у меня, что у любого другого переводчика, но мне захотелось самому найти то, что заложено в тексте.
– Первые переводы поэзии делались для себя или чтобы однокурсникам, например, показать? Вы не публиковали их?
– Нет, поначалу даже мысли не было о публикации. Я даже не знал, куда идти, в какие двери стучаться. Второй, третий курс, какие публикации? Первая у меня была в 1974 году, как раз я заканчивал МГУ. Сначала перевод был самовыражением: просто "ты не можешь не". А когда ты это сделал и показалось, что получилось, хочется просто поделиться, кому-то из друзей почитать. Вот, собственно, и все.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
– Когда состоялся переход в прозу?
– Попытки были, наверно, в середине 80-х. Я помню, какой-то рассказик про боксеров перевел, и его удалось напечатать в журнале "Ровесник". Изначально перевел для себя. Меня просто заинтересовал рассказ, думаю: попробую-ка его сделать. А потом: может, показать кому-то, не только мне это будет интересно? Первые переводы прозы и стихотворений выходили в журналах "Сельская жизнь", "Ровесник". Думал ли о том, что буду заниматься всю жизнь переводом? Нет, совершенно. Я думал, мало ли какие для филолога есть занятия: преподавание или диссертацию, может, писать буду. Какие-то такие были заморочки.
– То есть, в основном, научные.
– Может быть. Хотя позже я понял, что это не совсем мое. Я не академический человек.
– Где вы доставали в то время, в 70-е годы, книжки на английском? И насколько это было сложно? Или для студента филологического факультета это было гораздо проще?
– Китс и Йейтс на английском языке... Проблем не было пойти в Библиотеку иностранной литературы. Или что-то наши профессора давали. Почитать Набокова – вот это была проблема. Он был совершенно недоступен ни в английском, ни в русском варианте. Благодаря дружбе с американскими аспирантами я кое-что заполучил. По моей просьбе они привозили пластинки Леонарда Коэна, ардисовские книги, в том числе Набокова. Кстати, он тогда был очень сильным мотиватором, я был им безумно увлечен.
– Мотиватором в каком смысле?
– Не только как очень интересный сочинитель, мне хотелось его сразу перевести. Я понимал, что это очень сложно, но я человек вообще азартный. Вот только затея была абсолютно бессмысленная. О публикации, понятно, не могло быть и речи. Кстати, забегая вперед, в 1991 году я с женой и дочкой уехал в Америку, вроде как на год, а задержался там лет на семь-восемь. А когда я вернулся, Набоков уже был издан в переводах Ильина. Было жутко обидно. Как же так, я ведь был готов это делать! Но я оказался не совсем прав, потому что набоковская ниточка все равно потянулась очень интересно.
После окончания филфака, в семьдесят девятом году, я поехал в Ленинград, чтобы оттуда пройтись по набоковским местам – Выра, река Оредеж, Рождествено, Батово. Я ходил просто по домам, стучась в двери: "Простите, тут есть кто-нибудь, кто сам или чьи родственники знали семью Набоковых?" И я обнаружил стариков, которые жили тогда, были у них слугами. Я нашел дочку Розанова, лечащего врача Набоковых. Она мне подарила две открытки, написанные рукой отца Набокова, Владимира Дмитриевича, снимок с изображением И.В.Рукавишникова, тестя нашего писателя, и М.П.Кончаловского, брата художника Кончаловского, и, кажется, единственную сохранившуюся фотографию – контр-фас вырского дома, сожженного немцами при отступлении в сорок четвертом году. Позже я все это опубликовал в книге "Альманах библиофила". Уже много лет спустя я связался с музеем Набокова в Петербурге и отправил директору Татьяне Пономаревой копии этих фотографий и открыток.
Возвращаясь к переводу. Я опубликовал отрывочек из романа "Ада" в журнале "Столица". Позднее перевел предисловие Набокова к его английской версии "Героя нашего времени". Это такое хитрое эссе, где он раскрывает механизм выстраивания сюжета: Лермонтов, потом рассказчик, потом герой. Его любимая тема – зеркала, водовороты. Это было напечатано в "Новом мире". Еще я перевел два эссе Набокова о театре, они вышли в журнале "Современная драматургия". И, конечно, большой том переписки Набокова – Уилсона "Дорогой Пончик. Дорогой Володя".Так что Набокова я все-таки попереводил и даже написал пьесу "Ошибка, или Тайное путешествие Набокова в СССР", тоже вышедшую в "Современной драматургии".
Ссылки по теме
- Переводчик Виктор Голышев – о Бродском, цензуре и идеализации 60-х
- Владимир Бошняк: "Настоящей литературы просто больше нет"
- Михаил Рудницкий: "Переводчику надо уметь слышать текст"
– Для вас русский и английский Набоков – это разные писатели?
– Тут простого ответа нет. В каком-то смысле, разные, даже в большей степени. Конечно, есть у английского Набокова то, что было у русского, но ему так важно было встроиться в американскую литературу, что он поменял не только язык, но еще и, мне кажется, какие-то ракурсы. Сделался гораздо более интеллектуальным, более холодным и аналитичным. Особенно это ощутимо в поздних вещах. Упомянутая выше "Ада" – попытка соперничества с Львом Николаевичем Толстым, когда он временами уходит в какие-то эмпиреи. Я больше люблю русского Набокова. А из английского – "Пнин", "Говори, память". И, конечно, "Лолита".
– Вы упоминали про свою жизнь в США. Насколько, как переводчика, вас это изменило? Как это новое чувство языка помогает вживаться в текст, когда его переводишь?
– Это просто все перевернуло. Меня пригласили в Вермонт, в известную частную школу Патни, это называлось писатель-резидент. Пригласили на два месяца: пишешь, что хочешь, и общаешься со студентами, то бишь школьниками. Месяц я там попреподавал и что-то пописал, а еще месяц ездил по стране с лекциями. В 1989 году нас в Америке все обожали: "Перестройка, Горбачев!", и куда только не зазывали. Я прочел лекции в Колумбийском университете, в двух университетах Техаса – в Остине и в Далласе, в Мемфисе, в том же Вермонте. Только оказавшись в Америке, я понял, что и знаю язык, и не знаю. Нам английский очень хорошо преподавали, тут никаких претензий к учителям нет, но живая среда тебя меняет. Приезжаешь на юг, слышишь, как они говорят, и в первый момент вообще встряхиваешь головой: "Ребята, стоп, еще раз".
Потом я в США вернулся. В 1991-м меня пригласили в Айову на 2,5 месяца. Это международная писательская программа, от каждой страны по одному человеку. И опять же, там встречались с людьми, рассказывали, вопросы задавали. А под конец дали возможность ткнуть в три точки на карте и туда поехать. То есть это все оплачивалось. Так я оказался в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Новом Орлеане. А третий заход – это я уже взял маленькую дочку и жену, и мы поехали в Вермонт. Потом меня пригласили в Огайо преподавать на театральном факультете, а через пару лет поехал уже в родную Айову, в аспирантуру по драматургии. Так что второе образование у меня театральное.
Теперь я возвращаюсь к вашему вопросу. Все лекции я читал по-английски, русского языка вообще не было. Я жил не на Брайтоне, а исключительно в американской среде. Ты в какой-то момент начинаешь думать по-английски, это и есть то, что переключается у тебя в голове. Ты видишь сон, и во сне персонажи говорят по-английски, и ты думаешь по-английски, ты не переводишь себя с языка на язык. Это само приходит. Ты, может, делаешь какие-то ошибки, но это уже другой вопрос. В какой-то момент я стал писать по-английски. Я написал порядка семи пьес, которые потом сам же и перевел, они стоят у меня на полке. Два тома: "Здесь" и "Там". Пьесы, написанные в России, и американские, позже переведенные на русский.
В университете Огайо я написал и поставил свою первую пьесу на английском – Runaway Blues. Вот тогда я и понял, что стал двуязычным. С Набоковым я себя сравнивать не буду, он со своими гувернантками уже в два-три года болтал по-английски. А я только начал со спецшколы в городе Барнауле – согласитесь, не одно и то же. Но в какой-то момент со мной это произошло.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
– Театральное образование и переход в драматургию с чем были связаны? Вам именно этого хотелось, вы поняли, что в России не можете такого образования получить?
– Есть такая передача, называется "Линия жизни". Я – фаталист по природе и одна из моих любимых цитат: "Все будет так, как должно быть, даже если будет наоборот". Это сказал пророк. Что-то от нас, видимо, не зависит. Моя мама – актриса, отец был театральный режиссер. То есть я из театральной семьи. Мама очень не хотела, чтобы я пошел по ее стопам. Она знала закулисную жизнь, и ей это очень не нравилось, интриги всякие и так далее. Она хотела меня от этого оградить. Отец же совершенно не настаивал на том, чтобы я пошел по его стопам и стал режиссером. Если бы я захотел, наверное, он поощрял бы меня, но я не изъявлял такого желания.
Короче говоря, в театр я пришел с черного хода, а не с парадного. Театр я знал неплохо, меня еще ребенком водили на премьеры. И вот в какой-то момент я понял, что это мое – писать и переводить пьесы. Я перевел три десятка пьес. Из тех, что на виду, "Сильвия" (Тараторкин, Симонова, Чулпан Хаматова), "Смешанные чувства" (Чурикова и Хазанов, Боярский и Луппиан), "Я – не Раппапорт" (Лев Дуров), "После занавеса" (Полина Кутепова), "Участь Электры" (Нелли Уварова и Женя Редько). Но это уже другая тема. То, что публикуется – стихи, проза, и то, что ставится на сцене – две большие разницы.
– Вы имеете в виду разная, условно говоря, работа мышления – перевести прозу, стихи и переводить драматургию?
– И да, и нет. В художественном переводе моей крестной была Райт-Ковалева. И профессионально я начал переводить, когда Рита Яковлевна мне предложила рассказ Сэлинджера "Тедди". Это было не ее: дзен-буддизм какой-то… Она могла дочери своей предложить, Маргарите Ковалевой, которая перевела "Фрэнни" и "Зуи". Но предложила мне. Я думаю: такая проза чудесная, конечно, сделаю. Сделал, приношу. В следующий мой приход к Рите Яковлевне в тексте живого места не было, от моего перевода вообще ничего не осталось – вопросы, поправки. Она потратила, конечно, много времени. В общем, она меня сильно отрезвила, а я ведь неплохо владел пером, как мне казалось. Для меня это был шок. Я сделал, наверное, шесть или семь редакций. Совершенно незаменимый опыт. Продравшись через все это, я вышел на совершенно другой уровень и понял, что такое переводить настоящую прозу.
Я хорошо запомнил напутствие Риты Яковлевны: "Сережа, прежде чем что-то переводить, вы должны услышать голоса персонажей. Пока вы не услышите их голоса, как они друг с другом разговаривают, кто-то громко, кто-то тихо, у кого-то фальцет, у кого-то баритон и так далее, даже не беритесь". Это уже театральный подход. Она так не формулировала, как я сейчас, но я-то прекрасно понимал. Да, это так же, как актер работает над ролью или режиссер над спектаклем. Он должен сначала услышать, как разговаривают персонажи пьесы, а потом уже перенести на сцену, чтобы приблизиться к тому, как в голове у него все звучало. В этом смысле, я не вижу особой разницы между переводом прозы и переводом пьесы.
Но разница все-таки есть. Ну, хорошо, ты услышал голоса, перевел. Предположим, ты это хорошо сделал. А услышит ли так же твой читатель или нет, это уже не к тебе вопрос. Но если мы говорим о театре, ты должен перевести так, чтобы актерам было удобно эти реплики воспроизводить, чтобы не было зажима, чтобы не хотелось переделать по-своему и так далее. Вот они отрепетировали, вышли на сцену и произносят твои фразы, как они есть, или с мелкими какими-то поправками. В этом смысле перевод пьесы – это чуть-чуть другое, тут нужно довести все почти до совершенства, не ремарки (они по-своему важны), а именно голоса, то есть диалог.
Поэтому, да, театр – это мое, я это чувствую. Насколько я знаю от актеров, которые играли в переведенных мной пьесах, протеста не возникало. Потом я в этом убеждался, когда приходил в зал и слышал знакомые слова и обороты.
Ссылки по теме
- Владимир Бабков: "Переводчик должен исполнить роль автора, но на другом языке"
- Аполлинария Аврутина: "Восток всегда жил сам по себе"
- Сергей Ильин: "Написать смешное и легкое гораздо труднее, чем что-то мрачное"
– Продолжая отчасти эту тему, насколько вам, как переводчику и писателю, сложно переключаться, когда вы переводчик и когда вы писатель? Это же разная совершенно работа, и, может быть, это даже как-то мешает?
– Как ни странно, тут все очень просто – есть какое-то реле, оно переключается. Я могу параллельно писать прозу или пьесу и переводить роман. Поскольку это разные миры, то и разные подходы, я не боюсь, что случайно моя интонация ненужным образом всплывет в чужом тексте. Там меня ведет все-таки автор, с его интонацией.
Больше скажу, я даже не вижу никакой разницы в сочинительстве и переводе, потому что перевод, так или иначе, является сочинительством – ты заново сочиняешь произведение. Да, по каким-то уже проведенным рельсам едешь, но это только заданное направление. Может быть, тебе придется рельсы сузить или расширить. Все равно ты придумываешь в этих рамках нечто новое, не преувеличивая своего значения. Автор первый, а ты как бы на подхвате.
– На вас, как на писателя, те, кого вы переводили, как-то повлияли?
– Вы знаете, мы очень зависимы по молодости. Тогда влияло, я себя на этом ловил. И русские писатели влияли. Пастернак в поэзии на меня очень сильно повлиял. Набоков, опять же. Но когда ты становишься более зрелым, все как-то по-другому. Да, они все существуют, один на дальней полке, другой – на ближней. Но ты дистанцировался. Я не думаю, что они уже как-то влияют.
– С чем связано, что сейчас многие классические вещи заново переводятся? Вы, например, и Фицджеральда, и Капоте в последнее время перевели. Это вопрос какого-то временного соответствия? Перевод просто устаревает?
– Нет, это, скорее, вопрос авторских прав. Какие-то проблемы с наследниками. Издатели ко мне обращаются, а мое дело – сказать "да" или "нет". Но я не соперничаю ни с кем, не доказываю, что я лучше. И потом, позже я смотрю, как, например, переводила Евгения Калашникова, и она делала это очень хорошо. У меня никаких претензий нет к тому, как она перевела Фицджеральда и Хемингуэя. Но у меня есть азарт, я хочу это сделать сам, как если бы старого перевода не существовало.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Вдруг вылезают интересные нюансы. У Калашниковой – "Ночь нежна". В переводе мелочей нет, тем более в названии. Автор позаимствовал его у Китса из "Оды соловью", о чем открыто сказал, процитировав его в самом начале. Tender is the night – двухстопный ямб, чему соответствует "Как ночь нежна" (у И.Дьяконовой "Как эта ночь нежна"). Я восстановил поэтическое название, дающее камертон всему роману.
Каждая вещь, так или иначе, вырастает из своего времени. Кашкин и та же Калашникова переводили Фицджеральда и Хемингуэя в 60-70-е годы. Это время, которое я знаю не понаслышке – железный занавес, люди совершенно отрезаны от внешнего мира. Казалось бы, а причем тут это? Есть же текст, есть словари, ну, переводи, кто тебе мешает? Но они ни разу не были там, где создавались эти тексты. А это очень важно. Та же Райт-Ковалева ни разу не была в Америке. Воннегут приезжал сюда к ней. Она меня с ним познакомила.
Они практически все были невыездные. Это первое. Во-вторых, мир очень меняется, то есть меняется язык. Раньше лет 30 проходило, а сейчас за пять лет уже заметны какие-то изменения, заимствования и прочее. Тут нужно быть очень осторожным – нельзя осовременивать то, что было написано Фицджеральдом в 30-е годы или Хемингуэем в 40-е. Поэтому должно быть чувство меры, ты должен примерно оставаться в тех пределах, без новояза всякого, если он не намеренный, как в "1984". Я, кстати, когда-то давно перевел "Скотный двор", и он сейчас заново вышел спустя 20 с лишним лет.
– Вы в перестроечные годы его переводили?
– Да, он вышел в сборнике с другими антиутопиями, а сейчас АСТ решило издать "Скотный двор" в моем переводе, чему я безумно рад. У меня он назывался "Скотский уголок", но они попросили не менять название, поскольку оно уже укоренилось в читательском сознании.
Время от времени надо делать новые переводы. Желательно просто, чтобы их делали профессионалы, потому что сейчас выходит много таких переводов, что лучше бы их не было. В общем, я на себе это проверяю, когда предлагают мне перевести какой-то американский роман. Тома Вулфа, например. Я же там был, видел и слышал. Знаю эти улицы, знаю, как смотрятся вывески, и так далее. То есть тебе все понятнее намного, чем если ты просто пытаешься что-то представить. Вот почему мне было комфортно с такими разными авторами, как Ричард Йейтс и Пол Остер и тот же Вулф.
Наконец, есть еще один нюанс. Есть произведения игровые. Например, мой любимый Эдвард Лир. Я сделал книжку его лимериков "Мир вверх тормашками", которая вышла с его рисунками в издательстве "ТриМаг".
Держал парижанин Трике
Супругу свою в сундуке.
На призыв: "Отопри!"
Отвечал он: "Шери,
Ты прелесть, когда в сундуке".
А еще я вставил некоторые его стишки в свой роман для детей "Тайна рыжего кота".
Про дядюшку Арли, большого чудачника
[html]
[/html]
Мастеря сачки из марли,
Жил на даче дядя Арли,
Сидя на мешке муки.Шли вприпрыжку дни и ночки,
Стрекотал Сверчок в лесочке,
Лопались на шляпе почки.
(Правда, жали башмаки.)Сам из Челси, непутевый,
Он от шума городского
Убегал к реке тайком.Там учил он петь рыбешек,
Красил мак в цветной горошек
И ловил стрекоз и мошек
Продырявленным сачком.Пожимая догам лапу,
Ш е в е л ю р о в у ю шляпу
Он почтительно снимал.Завывала дружно стая,
Дядин п ё с е н н и к читая.
О, собачья жизнь простая,
Как ее он понимал!Как-то раз он топал мимо
Тополя, и тополиный
Пух на шляпу сел к нему.Дядя в облачко вгляделся:
Может, весточка из Челси?
Вдруг Сверчок на нос уселся,
Непонятно почему.Видно, сел он нá нос вместо
Травки, сел он – и ни с места!
С той поры они дружки.Можно слушать бесконечно,
Как Сверчок поет беспечно.
(Примиряясь с тем, что вечно
Жмут при этом башмаки!)Сорок три зимы минуло,
И немножечко сутулым
Стал наш дачник и чудак.Башмаки совсем растопал,
Боевой забыл свой вопль,
А на шляпе вырос тополь –
Своенравный, как ветряк!Пива ль он хватил, удар ли
Вдруг хватил беднягу Арли,
Истекли его деньки.Тополек дает листочки,
Из муки пекут блиночки,
И павлин, надев очечки,
Вслух читает эти строчки
Нам, а р л я т а м, у реки.
Ну и как тут не вспомнить "Алису в стране чудес", которую всем хочется переводить снова и снова, потому что у каждого своя игра, свои правила. Я, кстати, перевел в книжке "Алиса для малышей" для того же издательства "ТриМаг" два стишка, которые почему-то не входили в более ранние издания. У меня целая полка разных переводов "Алисы". Кстати, упомянутый Набоков – автор самого неинтересного перевода.
– А какой ваш любимый?
– Заходера. Хотя я должен сказать, что и у Демуровой это хорошо сделано, но у нее только проза, там поэзию переводили Ольга Седакова, Маршак и кто-то еще. Есть перевод Александра Щербакова, он тоже очень хорошо, по-моему, сделан. Но когда открываешь Заходера… Он не зря же говорит, что пересказал: "Ребята, не приставайте ко мне, что это, мол, неточно, что вы вольничаете – это пересказ". Но когда книга такая игровая, ее нельзя буквально перевести, тогда все теряется.
"Крокодильчики мои, цветики речные, что глядите на меня, словно как родные? Это чем хрустите вы в день веселый мая, средь нескошенной травы головой качая?" Гениальный перевод, после которого, если бы мне предложили эту вещь, я бы отказался. Как отказался бы, если бы мне предложили перевести Сэлинджера после Райт-Ковалевой.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
– К слову об этом. Вы говорите, что переводчику желательно побывать в тех условиях, о которых идет речь в книге. Как выходить из ситуации современному переводчику, который переводит, например, "Над пропастью во ржи" Сэлинджера? Там же в оригинале сленг, на котором говорили подростки 50-х. Райт-Ковалева ведь тоже этого не знала. Да и Максиму Немцову, автору нового перевода, послушать этот сленг никак не удастся.
– Это все при мне происходило, поэтому я знаю не понаслышке. Рита Яковлевна, естественно, уже пожилой человек в то время, конечно, не знала современного сленга. Она всех расспрашивала, и меня в том числе.
К ней в дом ходили очень молодые люди, она их всех привечала. Дверь в доме на Красноармейской улице никогда не закрывалась. Я на всякий случай стучал, а она говорила: "Что вы стучите, Сережа, заходите". И обязательно каждый раз спрашивала, как одно можно сказать, как другое. То есть, как сегодня это говорят. Она даже таксистов спрашивала, не стеснялась. Где бы ни оказывалась, искала точное слово. Как раз по части жаргона или сленга и вообще языка как такового, мне кажется, там все сделано очень хорошо. Особенно интонационно.
Там есть огрехи по другой части – спортивная терминология, которой она не знала, а редакторы почему-то не исправляют. У нее там баскетбольное кольцо называется "ободом", лунки на поле для гольфа – "ямками", станок для натяжки струн – "прессом для теннисной ракетки", ну и так далее. Не говоря уже о том, что пресловутая холденовская "охотничья шапка" на самом деле бейсболка, а "сырники" – чизбургеры. Просто в ее время эти слова еще не вошли в русский язык. Подобные ляпы есть не только в "Над пропастью во ржи", но и в повестях "Фрэнни" и "Зуи". У меня, помнится, была пауза в работе, целый месяц, и я отредактировал всего Сэлинджера.
– Для себя?
– Я думал, что не для себя. Послал правку в издательство "Эксмо". "Ребята, вот бесплатно, мне не нужны деньги, просто давайте замечательные тексты, чтобы в них не спотыкаться, выправим". Тогда еще была жива дочь Райт-Ковалевой Маргарита, с которой мы тоже дружили, но она категорически была против всяких исправлений. После ее смерти можно было это сделать, но не сделали – предпочли заново перевести. Я, честно скажу, не стал вчитываться в переводы Немцова. Посмотрел названия – все мимо. Полистал и понял, что это из серии: "А вот как я могу". То есть то, о чем как-то говорил Виктор Голышев: не надо доказывать, что ты лучше всех. Поэтому с Сэлинджером вот такая история.
Ссылки по теме
- Наталья Мавлевич: "Перевод – противоестественное занятие"
- Максим Немцов: "Есть книги, убитые в переводе и до сих пор не оживленные"
- Александр Богдановский: "Чем сильнее на тебя давят, тем лучше делаешь свое дело"
– А что уже из классических переводов необходимо обновить? Может быть, Остен, Диккенса, Воннегута? Например, Владимир Бабков рассказывал, что "Завтрак для чемпионов" у нас переведен не полностью, все "неприличности" оттуда выброшены.
– Я как-то не думал на эту тему. Наверное, есть непопадания в русских переводах, которые требуют какого-то другого взгляда. Но кого бы я назвал… Воннегут, может быть, да. Но когда речь идет о том, что раньше издавали с купюрами, то, конечно, это особый случай. Скажем, АСТ заказало новые переводы Стивена Кинга – "Мертвая зона", "Воспламеняющая взглядом", повести, – все то, что я перевел когда-то и что годами переиздавалось. Они мне объяснили, что в старых переводах были пропуски. Может быть, я не проверял. Джейн Остен и так, по-моему, бесконечно переводят. Уж не знаю, из каких соображений. Опять же, обновить язык? В случае, с Остен или Диккенсом он должен быть в меру архаичный.
– Насколько вам интересна современная англоязычная литература для перевода? Я посмотрел, вы, например, для издательства Corpus несколько детективов переводили.
– Я могу сразу сказать, что ни одной строчки за свою жизнь не перевел из того, что бы мне не хотелось. То есть были случаи, когда я переводил не по заказу, но это касается пьес. Если меня увлекала пьеса, и мне казалось, что она здесь может пойти, я ее быстро делал и предлагал в какие-то театры. У меня в компьютере, наверное, полтора десятка не поставленных пьес, причем хороших авторов.
А так – заказы. Но я всегда говорю, чтобы присылали, а я посмотрю. Если мне книжка не понравилась, я откажусь. И вообще, денежная сторона меня просто не интересует. Мне нравится жанр детектива и триллера, я люблю интригу. Это, опять же, с театром, наверное, связано. Если интрига лихо закручена, если есть там какие-то интересные повороты, я получаю удовольствие. С детективами, которые переводил, я пару месяцев жил в абсолютном согласии. С тем же Ле Карре.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
– А как вам переводить с кем-то вместе?
– Это тема зыбкая. Я не знаю, как у других, для некоторых вообще проблемы не существует, с кем переводить. Ну, заказали и заказали тебе от такой-то до такой-то страницы, другой начинает с этого места. Но не случайно, опять же, Голышев с Бабковым вместе переводили. Они на одной волне. Для меня это важно, я тоже должен быть на одной волне с человеком, то есть взгляды похожи должны быть не только на перевод, но и какие-то жизненные позиции сходиться.
Поэтому когда Голышев мне предложил Макьюэна перевести, я сказал – да, конечно, даже не читая согласился. Когда уже прочел, подумал, что поторопился с ответом, потому что это не совсем мое. Я все-таки классический филолог. А там речь об энергии солнца, всякая там аппаратура, герой — нобелевский лауреат.
– Как раз для Голышева.
– Для него в самый раз, да. Но уж очень хотелось мне с ним вместе что-то перевести, и я сделал свою часть. Он, конечно, ловил меня на разных огрехах, что было предсказуемо. Я ему потом немного "отомстил": прочел его часть и по языковой части тоже нашел каких-то блох. С чем-то он согласился, с чем-то – нет. Короче, это все шутки, нам не надо было притираться. Наверно, очень проницательный читатель найдет какие-то стилистические различия. Но мне это в глаза не бросалось, потому что, опять же, подход совпадал. Мы уже об этом говорили, что я не самоутверждаюсь, я никому ничего не доказываю. И Голышев тоже. Переводчики – это "почтовые лошади просвещения". Наше дело довезти и выгрузить, а дальше пусть текст живет своей жизнью.
Приведу еще один пример. "Голос крови" Тома Вулфа я переводил с Николаем Мезиным, которого никогда не видел, так как он живет не в Москве. Но мы потом смотрели, что сделал он, что сделал я, и там был интересный поворот.
Вот мы с вами не затрагивали тему ненормативной лексики. Я мат, честно говоря, в литературе, в отличие от жизни, не люблю, мои герои, когда я пишу, на нем не разговаривают, и в переводах стараюсь избегать. В этом романе, там, где можно было, я искал какие-то более или менее литературные замены. Иначе резало бы мой слух. Это не значит, что я не употребляю мат в жизни, но тут совершенно разные вещи. Одно дело эмоциональная реакция, когда ты себя по пальцу молотком шандарахнул. И другое – видеть это на странице. Не зря же говорится – непечатное. Короче, Мезин все это сохранил, и отчасти я с ним согласился, потому что в данном случае это было важно. Герой матерится, автор это подчеркивает. Допустим, у него низкий социальный статус, понятно, что он должен употреблять такие слова. Поэтому где-то я восстановил, согласился с переводчиком и с редактором, который тоже считал, что здесь это будет уместно.
– Вам и в русском и в английском варианте не нравится ненормативная лексика?
– Только в русском. В английском – нет, потому что у них была сексуальная революция, они через это прошли еще в 60-е годы, и эта лексика уже растворилось в языке. Там она не воспринимается, как у нас. Мы с моими американскими студентами, разбирая пьесу, изобилующую скабрезностями, произносили эти слова в классе, и ничего. Хотя есть и у нас исключения. Например, "Николай Николаевич" Алешковского. Там это очень органично и не может быть иначе. Я только кайф ловлю, когда читаю, как это сделано здорово. Но в переводной литературе, как правило, все мимо. В английском это проскакивает, и никто не заметил, еще одно слово, как любое другое. А у нас трехбуквенное слово сразу вылезает, на это сразу реагируешь, что мешает восприятию текста. Ты как бы все время спотыкаешься на таких словах.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
– Если уж вспоминали Сэлинджера, то Райт-Ковалева как раз там заменила слово fuck. Она ведь перевела это как "похабщина". Но если бы она перевела слово из трех букв, это, наверное, совсем поменяло бы восприятие текста.
– Да это просто как торчащий гвоздь в стене. Она это очень хорошо чувствовала. Вот у нее был абсолютный слух, и она бы никогда на это не пошла.
У меня был смешной момент. Когда "Мертвая зона" Кинга уже редактировалась в "Иностранке", редактор Кудрявцева придралась к слову одному. Там какой-то митинг, и на плакате написано "Перепихнемся, крошка?". По сегодняшним меркам вполне невинно. Она говорит: "Это надо заменить". Я ей: "Татьяна Николаевна, вы же сейчас печатаете в переводе Аксенова "Регтайм", а там слово "жопа", снова и снова". Я уже потом узнал, что Аксенов сказал ей, что без "жопы" роман печатать не разрешает. Все-таки Аксенов – согласились. Но сегодня можно, конечно же, все. Поэтому тут внутренний редактор должен быть. Это не в издательстве должны все-таки решать, а сам переводчик.
– Если продолжить разговор про современную литературу. Есть какие-нибудь произведения, которые вы хотели бы перевести, но по тем или иным причинам их, может быть, не заказывают или они неактуальны, а вам кажется, что это было бы важно?
– Пожалуй, нет. Я много читаю, но, в основном, все-таки русских авторов, больше, чем переводных. На все времени не хватает. Поэтому допускаю, что есть что-то, что мне пришлось бы по сердцу, и я бы захотел сделать, но не вижу причин, по которым что-то не могло бы сейчас пройти. Это цена вопроса.
– А если говорить о периоде 70-90-х годов?
– А что там есть непереведенного? Это наших авторов 60-х или 70-х годов гораздо меньше переводили на английский, а вот английскую и американскую классику, по-моему, всю перевели. Все, что было хоть как-то заметно.
Из того, что я очень хотел перевести и все никак не получалось, любимейшая моя книга "Пророк" Калиля Джибрана. Такое Евангелие ХХ века. Я эту книгу прочел, когда еще был студентом, и просто в нее влюбился. Я бы приплатил за то, чтобы мне дали его перевести. Но тогда это было невозможно.
У меня с этой книгой связана такая история. Возвращаюсь я после своих заокеанских странствий, и вот однажды раздается звонок: "Мы хотим переиздать ваш роман-детектив для детей "Тайна рыжего кота". Как вы к этому относитесь?" Я, естественно, хорошо к этому отношусь. "Приезжайте, поговорим об условиях". И вот я вхожу в кабинет к директору издательства "ТриМаг" Паате Медзмариашвили… и вижу у него на столе верстку с "Пророком". Я, видимо, меняюсь в лице, потому что он спрашивает: "Сергей Эмильевич, что такое?" Я ему начинаю говорить: "Понимаете, год назад я вернулся из Штатов и узнаю, что эта книга вышла в Софии на русском языке, потом в моем родном издательстве МГУ еще один перевод. И теперь я вижу на вашем столе верстку. Я так понимаю, это уже третий перевод. Кто его сделал?". Он называет две фамилии, кажется, муж и жена, арабисты. Ну да, кому как не арабистам это переводить! И тут он мне говорит: "Переводите! А с ними я как-нибудь решу этот вопрос". Паата на целый месяц сделал меня счастливым человеком. Я перевел, он это издал с рисунками самого Джибрана, плюс к книге прилагается диск с музыкой.
Вот бывают такие случаи, когда ты мечтаешь что-то сделать, и все оборачивается против тебя, но линия жизни тебя выводит, куда надо. Значит, так было суждено.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
– В России в последние годы еще появилась мода на нон-фикшн, люди начали его читать активно. У вас есть какой-то интерес к этому?
– Да, я сделал одну книжку для издательства Corpus (она еще не вышла). Это тот случай, когда я предложил совместный перевод. Книга называется "Шпион среди друзей" про Кима Филби, двойного агента. Я вообще не любитель толстых романов. Когда это детектив, как-то быстро все пролетает, а когда серьезная все-таки литература, то меня это начинает немного утомлять. Я не стайер, предпочитаю короткие и средние дистанции. И я предложил им переводчика, Анну Шульгат, издательство с ней связались, она согласилась. И вот мы с ней разделили книгу пополам. Еще я когда-то для Музея личных коллекций сделал альбом работ Петра Кончаловского – статьи, аннотации, примечания.
– Ведь вы делаете еще переводы с русского на английский. Насколько это сложнее? Что является предметом ваших интересов в этом смысле?
– Это серьезный вызов даже для меня. Все равно где-то будут неточности, и кто-то это должен поправлять. Один раз ко мне обратились от Кирилла Серебреникова, когда он снимал фильм "Юрьев день". Хотел он тогда на главную роль пригласить известную французскую актрису, а она же по-русски не читает, поэтому нужно было сделать перевод сценария, который написал Юрий Арабов. Я сделал это не для публикации. А с француженкой что-то не срослось, и главную героиню в фильме сыграла Ксения Раппапорт.
– Свою прозу взялись бы, по примеру Набокова, переводить на английский?
– Для этого у меня есть коллега, прекрасная переводчица с русского на английский, Мэрион Шварц, живущая в Техасе. Но однажды Виктор Шендерович по дружбе попросил меня перевести его киносценарий "Тезка Швейцера". В Штатах он познакомился с бывшим нашим соотечественником, который сказал, что может протолкнуть сценарий в Голливуде. Ну разве можно отказать Шендеровичу?
– Когда вы уезжали в Америку, у вас не было желания познакомиться с какими-то людьми, которые на тот момент вас интересовали или которых вы переводили?
– Мне посчастливилось познакомиться в Нью-Йорке с драматургом Артуром Копитом. И интервью с ним сделал, и пьесу его перевел. А еще, там же, с отличным прозаиком Полом Остером – в моем переводе вышло, кажется, пять его романов. А здесь я познакомился с Питером Гринуэем. Я с ним поработал на Московском кинофестивале, а позже перевел его книжку коротких рассказов "Золото".
Однажды вроде как была возможность встретиться с Солженицыным. В 1989 году я прилетел в Вермонт. Я жил в Патни, а он в Кавендише, в получасе езды на машине. Но без рекомендательного письма, сами понимаете, туда нечего было даже соваться. Хотел еще встретиться со Стивеном Кингом. Я ему написал, уже не помню, как узнал его адрес. Я предложил встретиться и сделать интервью, но он предпочел, чтобы я прислал вопросы по почте. Что я и сделал. Он на них ответил, и я потом в какую-то книжку это вставил.












 Собянин: "Малый бизнес Москвы" помог более 360 тысячам предпринимателей
Собянин: "Малый бизнес Москвы" помог более 360 тысячам предпринимателей

























